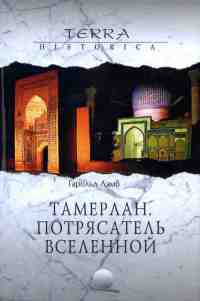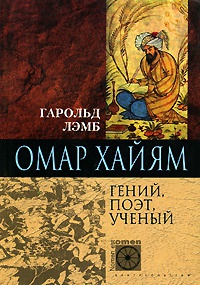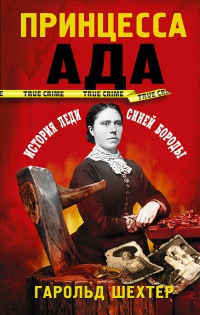Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Спуск к Матерям, который трепещущий Фауст не смог бы совершить без фаллического ключа, есть, по сути, обращение к мифологическим музам во имя второй части. Мефистофель с помощью погубленной Гретхен удерживает Фауста от самоудовлетворения; то, что во второй части Фауст возвращается к аутоэротизму через воображаемый союз с эктоплазменной Еленой, — это только иронический прогресс и человеческое поражение. Во второй части Гёте снова ставит нас перед перспективистской дилеммой и не разрешает ее. Еще один шабаш ведьм, на этой раз античный, а не немецкий, дает нам больше буйных образов Эроса, чем одинокие романтические порывы и коллективные христианские увещевания. Гёте усиливает иронию: Мефистофелю, христианскому дьяволу, зачастую делается не по себе от натурализма античной Вальпургиевой ночи. «Все голы», — бормочет он, когда бесстыдные сфинксы, непристойные грифы и прочие разнообразные существа «то спереди, то сзади, без прикрас / Хвосты и крылья тычут напоказ»[305].
Дьявол, которому хочется фиговых листочков «по моде»[306], — это довольно-таки забавно. Томящийся по своей классической Елене Фауст чувствует себя в окружении древних чудовищ более свободно, а Гомункул оказывается самым отважным из всех троих. Это причудливое существо, одно из самых славных измышлений второй части, было создано алхимиком Вагнером, некогда верным помощником Фауста. Очаровательный человек, миниатюрный мужчина, вынужденный жить в стеклянной колбе, где он зародился, Гомункул нисколько не напоминает Мефистофеля, чье присутствие в лаборатории Вагнера дало инфернальную энергию, превратившую огонек в нечто большее, чем человеческий разум. В Гомункуле нет ни язвительности, ни нигилизма; он также не Фауст в миниатюре, как пытались его представить некоторые исследователи. Слишком доброжелательный для сатирического персонажа, герметичный Гомункул превосходит нас всех в знаниях и разумении. Пламя сознания, не воплощенное, но явленное в рассудке, он, кажется, в большей мере пользуется симпатией Гёте, чем все остальные персонажи поэмы. Бесконечно веселый и занятный, он трагически ослаблен жаждой любви, которая заставляет его в отчаянии уничтожить себя при встрече с Галатеей.
Действующий только во втором акте Гомункул потому производит столь сильное впечатление как личность, что Фауст во второй части прискорбно внеличностен — во всяком случае, если помнить о личности Гёте. В первой части Фауст был Гамлетом для бедных, но у него были сильные чувства, уникальная неукротимость и способность к настоящей негативности. Во второй части он утомительно благороден, рассеян и неспособен ни на какие элементарные реакции. Гёте сознательно сделал этого второго Фауста идеальной аллегорией классического поэтического темперамента, поэтому даже его страсть к Елене делается формой страсти самого Гёте к греческой поэзии и греческой скульптуре. Это достаточно рассудочное возвышение Фауста неизбежно влечет за собою соответствующую перемену в Мефистофеле, который практически перестает быть Дьяволом: он вынужден стать эдаким христианином от высокого романтизма, тщетно пытающимся принизить классическое великолепие или стремящимся по крайней мере как-то примирить Грецию с Германией. Бедный Мефисто! Из интригана, пытающегося вернуть нас к негациям Первоначальной Бездны, он превращается в резонера и компаративиста, а то и в «историста».
Возможно, именно поэтому идею показать Фаусту классическую Вальпургиеву ночь высказывает не Дьявол, а Гомункул. Маленький человечек объясняет, что экспедиция должна оказать на Фауста терапевтическое воздействие, приблизив его к Елене, — самим же им движет влечение, которое достигнет кульминации у ног Галатеи. Все эти детали лишь второстепенны для Гёте, чье главное побуждение — поставить коронный номер всей его творческой программы, написать полторы тысячи строк о древнегреческом шабаше ведьм, которого никогда не было ни на суше, ни на море, но который отныне есть, потому что так пожелал Гёте.
Если, по верному утверждению доктора Джонсона, суть поэзии — это способность к изобретению, то по классической Вальпургиевой ночи видно, что такое поэзия по самой своей сути: управляемая дикость, радикальная самобытность, подчиняющая себе предшествующие силы, и — главным образом — создание нового мифа. Гёте обеспечил себе место в литературном каноне, прибавив к красоте больше странности (Пейтерова формула романтизма), чем любой другой западный поэт после него. Гётево возвышенное раздвигает пределы гротеска шире, чем мне представлялось возможным. Сделанное им столь причудливо возмутительно, что литературоведение так к этому и не приспособилось — в первую очередь немецкое литературоведение: уж слишком торжественно-серьезной светской религией оказался культ Гёте.
Гёте обошелся чуть ли не без всего, чего ожидаешь от нормального классицизма: олимпийских богов, гомеровских воинов, героических победителей чудовищ. Боги Гёте сами суть чудовища: взять Форкиад, страшилищ, таящихся в первозданной Ночи. Они внушают нам тревогу, необходимую для исполнения замысла Гёте. Странно, но единственная современная параллель, приходящая мне в голову, — это затяжной кошмар, с которого начинаются «Вечера в древности» Нормана Мейлера, уносящие нас в мир египетской «Книги мертвых». Эти мрачные страницы — из сильнейших у Мейлера и убедительно передают инаковость его вечеров в древности. Потом в его египетском романе будут оплошности — но смерть, как и блудовство, неизменно «включает» Мейлерово воображение.
Жизнь после смерти давалась Гёте лучше, и его экскурсия по ночным пределам легко превосходит Мейлерову. Она начинается в фессалийском городе Фарсале, где Цезарь разбил Помпея. Колдунью Эрихто, созданную Луканом, Гёте превратил из осквернительницы захоронений в летописицу тщетных сражений. Не желая встречаться со странной троицей — Гомункулом, Фаустом и Мефистофелем, она убегает, а они остаются обследовать тысячу костров, вокруг которых собрались древние боги и чудовища, ожившие на одну ночь в году. Гёте выстраивает свой мифопоэтический контрапункт на таком множестве классических образцов, что видеть направляющий его гений лишь в одном было бы заблуждением — но все же ближайшим его предшественником кажутся «Лягушки» Аристофана. Аристофан пародировал жестоко, особенно Еврипида, но никто во всей истории литературы не пародировал так всеобъемлюще, как Гёте во второй части «Фауста». Причудливый диапазон тональностей начинает складываться, когда Мефистофель наталкивается на Грифов, с которыми лично я ни за что не пожелал бы встретиться. У этих необаятельных зверей, чье предназначение — стеречь сокровища, голова и крылья орла, а туловище и лапы львиные. Пестрые, зоркие, ужасающе стремительные, они — идеальные сторожа, и нрав у них свирепый. Но у Гёте они — просто желчные старые скряги.
Мефистофелю, который величает их «премудрыми стариканами-гривачами», они отвечают, как полоумные редакторы словаря, гремя гортанным «р»:
Ни одного читателя не напугает геральдический зверь, произносящий слова: