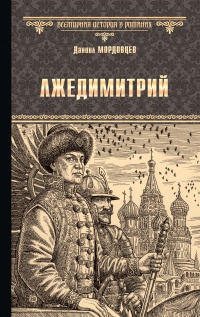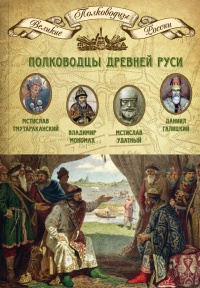Книга Великий раскол - Даниил Мордовцев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Сымите ее с ложа и посадите на седалище сие.
Иоаким указал на стоящее у постели высокое обитое золотой материей кресло.
– Сымите меня, голубицы мои! – сказала, в свою очередь, и Морозова. – Я не повинуюсь еретикам, так пущай несут меня силою.
– Что ты, что ты, золот перстень!
– Сымите, други мои, я повелеваю вам! – настаивала боярыня.
«Рабыни» повиновались и бережно усадили свою госпожу в кресло. Иоаким позвал четырех стрельцов, стоявших у дверей. Они робко вошли и поклонились хозяйке.
– Здравствуйте, миленькие! – ласково отвечала она им поклоном.
– Возьмите и несите из дому, – распоряжался Иоаким. Стрельцы нагнулись, осторожно приподняли кресло с молодою боярынею и понесли через все богатые палаты к выходу.
За креслами шла Урусова, повторяя: «Я не отвергнуся тебе, сестрица… Апостол Петр отвергся и, изшед вон, плакася горько, а я не отвергнуся…»
Тут же шли Степанида Гневная и Анна Амосовна и плакали. Иоаким и Ларион Иванов открывали шествие.
Из внутренних покоев показалось испуганное лицо юноши: это был сын Морозовой, Ванюшка, Иван Глебович… Мать не видала его и не оглядывалась: она думала, что он спит…
«На новой лошадке», на иноходце и на черкасском седельце хотел голубчик ноне ехать к Дюрдиньке в гости, – вспомнилось ей вчерашнее прощание с сыном, – и он, и Дюрдя сиротки теперь, да добро: Богородица не нам чета, лучше их, Матушка, взростит…»
Ванюшка молча в спину поклонился матери и закрыл лицо руками…
Когда Морозову вынесли на крыльцо, было уже совсем светло и холодный ветер трепал голые ветви деревьев. В доме и на дворе раздались вопли и причитания. На улице, против ворот и дома знаменитой боярыни, тоже толпились любопытствующие и слышались неприязненные возгласы:
– Что это, дневной грабеж! Боярыню из своего дома выбивают! Эки нехристи!
– Матушка! Куда ее несут, голубушку? Хоронить живую, что ли?
На крыльце верная челядь успела накинуть на опальную боярыню с сестрою по теплому платку и по шубейке.
– Прощайте, миленькие! – кланялась Морозова на все четыре стороны. – Молитесь обо мне, за крест хочу пострадать.
– Прощай, матушка боярыня! Молись за нас, грешных!
– Матыньки! Да что ж это такое будет, голубчики? Ноли Литва на нас пришла?
Возгласы неслись со всех сторон, и каждый из этих возгласов, словно порыв ветра, говоря иносказательно, обрывающий листья со старого дуба, отрывал у Алексея Михайловича народную любовь и доверие.
Морозову перенесли через двор и внесли в так называемые людские хоромы.
Войдя в хоромы, Иоаким приказал стрелецкому десятнику подать кандалы. Звук желез, вынимаемых из мешка, заставил Урусову вздрогнуть, но Морозова обратилась к сестре со взором, сияющим радостью:
– Слышь, сестрица! Слышишь, Дунюшка!
– Слышу, сестрица! О-ох!
– Не охай, а радуйся, Дуня милая! То наши новые четки звенят… Ах, как радостно звенят они ко Господу!.. Лучше колоколов звонят… Каждый их звоночек слышит ухо Христово, до сердца Божия звонят звоночки-те эти…
– Ах, сестрица!
– Так, так, Дунюшка! Это наша молитва, цепи-те, путы Христовы…
Стрелецкий десятник стоял нерешительно, держа в руках железа. Его добродушное лицо со вздернутым носом и вообще мало сформировавшимся профилем заливалось красными пятнами стыда…
– Что ж стоишь? Куй, – хрипло сказал Иоаким.
– Царева воля, заковывай, – повторил и Ларион Иванов, не глядя на Морозову.
– Куй, миленькой! – ободряла десятского Морозова. – Куй, исполняй волю цареву, токмо не при них… Вон отсюда! – крикнула она на архимандрита и на Лариона Иванова. – Вон, Пилаты! При вас, на ваших глазах не обнажу ногу моею, не обнажу, во еже мне и умрети…
Десятский топтался на месте. Урусова припала на колени перед сестрой…
– Изыдите вон! – повторила упрямица.
Иоаким и думный переглянулись. «Надо покориться бесу-бабе», – читалось в глазах думного.
– А без нас дашь себя заковать? – спросил Иоаким.
– Дам, не токмо ноги, но и выю дам заковать.
Иоаким и думный, пожимая плечами, вышли в подклеть, оставив сестер со стрельцами.
– Куй, миленькой, – ласково обратилась Морозова к десятскому и, приподняв немного ряску, показала маленькие, в шитых золотом черевичках, ножки и часть полных икор, обтянутых белыми чулками.
Стрелец стал на колени, нагнулся и еще более вспыхнул, покраснели даже уши.
– Куй же, вот мои ноги…
Стрелец пыхтел, не смея взглянуть в лицо арестантке.
– Микола-угодник! Эки махоньки ножки… да это робячьи ножки, у робенка словно, – бессвязно и растерянно бормотал он. – Тут и ковать нечего, ничевошеньки… эх!
Морозова горько улыбнулась, а Урусова, припав головой к ручке кресел, тихо всхлипывала:
– Куй, миленькой… Христа ради… для Христа это…
Стрелец отчаянно тряхнул волосами и перекрестился… двумя перстами… У Морозовой глаза блеснули радостью…
– Миленькой! Братец! Куй же! – И она восторженно перекрестила стрельца и его наклоненную, встрепанную голову.
Стрелец дрожащею рукою дотронулся до ноги боярыни, словно до раскаленного железа… Разнял кольцо ножное, обножие железа и дрожащими пальцами обвил это кольцо вокруг ноги повыше щиколотки…
– Прости, матушка… мученица… не я кую, нужда кует… Крестное целование, детки махоньки… Микола-угодник… – бормотал он, замыкая обножие.
То же сделал он и с другою ногою, бессвязно бормоча:
– Эки ножки… робячьи… крохотки… эк только ну!.. Уж и служба же проклятая!.. Ах, ножки божьи, ах!..
И он порывисто, крестясь и утирая слезы, припал лицом к закованным им ногам и целовал их, как святыню…
– Матушка! Прости! Святые ножки… молись об нас… помяни раба божия Онисимку-стрельца… ах!
Остальные стрельцы стояли и набожно крестились.
Через три дня утром, как и семь лет тому назад, на обширном дворе дома Морозовых и на улице, у ворот и против дома, толпились кучи народа: на дворе челядь, рабы и рабыни Морозовой, на улице, за воротами, – толпы любопытствующих и нищих, сопровождавшие всякий выезд знатной боярыни, как было и тогда, семь лет назад, когда Морозова ездила в гости к Ртищевым слушать словесные «накулачки» между Аввакумом и Симеоном Полоцким.
И теперь, по-видимому, ждали выезда Морозовой. На дворе, у крыльца главного подъезда, стояла богатая, известная всей Москве каптана Морозихи, украшенная бронзою, «муссиею и серебром и аргамаками многими» карета, запряженная двенадцатью белыми редкими конями с великолепными «гремячими чепьми». Около каптаны толпились «рабы и рабыни», числом не менее двухсот, ожидая торжественного выхода. На козлах по-прежнему сидел седобородый плотный кучер, боярин не боярин, поп не поп, а что-то очень важное, в высокой меховой шапке с голубым верхом наподобие купола Василия Блаженного, сидел, важно поглядывая на толпу и сплевывая через спесивую губу, и здоровыми ручищами в оленьих рукавицах сдерживал коней, грызших и пенивших слюною блестящие удила. На каждой из лошадей, запряженных цугом, сидело по молоденькому вершнику в высоких шапках с голубыми верхами… Все, решительно все глядело так же торжественно, как и семь лет назад… Не было только Феди-юродивого, которого удавили за веру в далекой Мезени, на глазах у толпы…