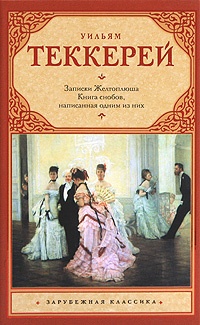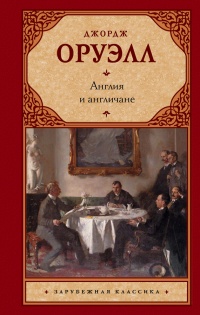Книга Призраки Дарвина - Ариэль Дорфман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Я так одинок, — печалился Дауни, — так одинок.
Он вторил Джемми в баре, а может быть, и Генри ночью в парижском зоопарке и мне самому, пока не явилась Кэм, чтобы спасти меня от темноты и одиночества.
И все же, несмотря на все его страдания, одиночество и чувство вины, несмотря на все его теории, эксперименты и гипотезы, его безумные, необоснованные подозрения о грядущем новом этапе, он ничего не почерпнул из своего путешествия, ничего не узнал о себе, о конечных жертвах насилия, фотографиях, жадности и бездушной науке. А теперь Дауни избрал меня своей жертвой, вставая в ряд слепых угнетателей, отнимая у меня мою жизнь, тот единственный шанс, который мне дали, который я сам себе дал, чтобы искупить и прекратить преступления людей, чьи гены слепились внутри меня. Как он посмел вести себя как бог, вершивший мою судьбу, руководствуясь собственной данностью и цивилизацией; как он посмел использовать меня, чтобы смягчить свою травму.
— Вы совершаете серьезную ошибку, — с жаром начал я, не думая, что Дауни вообще будет слушать, просто мне нужно было сказать себе, что я пытался, дал Дауни возможность выйти из пузыря мании величия и самоуверенности.
Внезапно внутри меня нашлись — словно кто-то нашептывал мне из сумерек мудрости — термины, которые Дауни, как ученый, мог бы счесть стоящими, по крайней мере зафиксировать в сознании. Что, если появление посетителя его дочери и моего было не вирусом, сигнализирующим о деградации наших тел, регрессе к дикости, а небольшим эволюционным шагом вперед, робким способом, которым вид пытался освободиться от лимбической системы, управляемой страхом и одиночеством, предвещая необходимость развития тех зон мозга, где обитают сострадание, сочувствие и доверие? Что, если бы мы отнеслись к моему посетителю как к пророку, а не как к чуме, как к вызову, а не как к трагедии? Что, если гены поселились во мне и Эвелин, чтобы предупредить нас о судьбе человечества в случае, если мы продолжим уничтожать друг друга? Что, если бы Дауни отнесся к призраку, досаждавшему дочери, как к ангелу, а не как к демону? Я бы сделал все возможное, чтобы сформулировать и озвучить теорию об этой возможной мутации в сторону доброты, но как раз в этот момент пришел Виггинс и сообщил, что мы заходим на посадку.
За стеклом иллюминатора светало. Занимался восход двенадцатого октября 1992 года. Я мельком увидел внизу ярко-синее море, когда самолет начал снижаться.
Виггинс разбудил Камиллу — к моему удивлению, довольно ласково — и спросил, пока она зевала и протягивала тонкие руки, не хочет ли она кофе, булочку, апельсиновый сок, а Нордстрем, готовая к новому дню и уже успевшая густо накрасить ресницы, начала обслуживать Дауни и меня. Кэм кивнула, поблагодарила Виггинса и повернулась ко мне:
— Что я пропустила?
— Ничего, — буркнул я. — Он совершает серьезную ошибку. — А потом обратился к Дауни: — Еще не слишком поздно. Есть и другие пути.
— Другие пути? — переспросил Дауни. — Нет, этот путь идеален. Разве нет? — Он имел в виду самолет, пейзаж снаружи, кружку дымящегося кофе в руке, возможно, планы и проекты, которые у него были на сегодня и на каждый день до скончания веков. — Разве это не идеально, черт побери?
Жаль, что у меня не было времени объяснить, что я имею в виду. Это было послание, которое я хотел бы доставить Пьеру Пети, имейся у меня машина времени, нашептать Карлу Хагенбеку и всем остальным, всем, кто сотворил меня и мир, который мы населяли, я хотел бы поговорить с ними через Дауни. Потому что они умерли, а он жив, они допускали ошибки и убеждали себя, что это, черт побери, идеально, а у него еще есть шанс признать, как он все исковеркал в своей жизни и все чертовски неидеально, несмотря на потрясающие доводы, которыми Дауни продолжал потчевать себя. Я бы хотел убедить его, что для любого из нас никогда не поздно понять истину.
На миг мне показалось, что все возможно. Невероятно, но Дауни повернулся, чтобы посмотреть на меня, и вроде как был искренне озадачен моей энергией, и, что более важно, замолчал; замолчал, как будто он наконец видел меня, а не кусок плоти, который нужно исследовать в лаборатории и анонимно выставлять напоказ в научных журналах; видел во мне человека, заслуживающего заботы и участия, уважения и доброты просто потому, что я родился, как и он, от матери и отца, а также от многих мужчин и женщин, которые жили надеждой на светлое будущее. Как будто он почувствовал, как дочь говорит через меня. Было ли это сиянием безмятежности в его глазах? Или я обманывал себя, проецируя на него то, что хотел бы, чтобы он чувствовал? А может, он просто вымотался, собираясь с силами для грядущего дня?
Я так и не узнал.
Мы приземлялись. Под шасси самолета сначала виднелся пенистый океан, затем раскачивающиеся тропические пальмы, и вот с глухим стуком мы коснулись взлетно-посадочной полосы, по обе стороны от которой тянулись бараки. И как только Кэм почувствовала под шасси самолета американскую почву, то, что, по ее мнению, было Флоридой, она вмешалась, перехватив разговор и повернув его в совершенно ином русле.
— Мой муж прав, доктор Дауни. Это о-о-о-очень серьезная ошибка. Вы слышали о habeas corpus? Наверняка наше задержание уже опротестовал Джерри Фостер, я даже не сомневаюсь. Так что приготовьтесь отпустить нас.