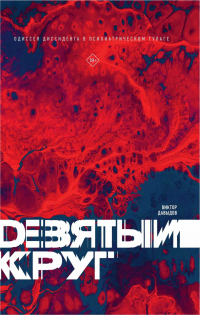Книга Архипелаг ГУЛАГ. Том 2 - Александр Солженицын
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А это ж и есть блатной принцип: тебя не гребут — не подмахивай! Лубянский следователь 1925 года уже имел философию блатного!
Так на вопрос, дикий уху образованной публики: "может ли политический украсть?" — мы встречно удивимся: "а почему бы нет?"
"А может ли он донести?" — "А чем он хуже других?"
И когда по поводу "Ивана Денисовича" мне наивно возражают: как это у вас политические выражаются блатными словами? — я отвечаю: а если на Архипелаге другого языка нет? Разве политическая шпана может противопоставить уголовной шпане свой язык?
Им же и втолковывают, что они — уголовные, самые тяжкие из уголовных, а не уголовных у нас и в тюрьму не сажают!
Перешибли хребет Пятьдесят Восьмой — и политических нет. Влитых в свинское пойло Архипелага, их гнали умереть на работе и кричали им в уши лагерную ложь, что каждый каждому враг!
Ещё говорит пословица: возьмёт голод — появится голос. Но у нас, но у наших туземцев — не появлялся. Даже от голода.
А ведь как мало, как мало им надо было, чтобы спастись! Только: не дорожить жизнью, уже всё равно потерянной, и — сплотиться.
Это удавалось иногда цельным иностранным группам, например японцам. В 1947 году на Ревучий, штрафной лагпункт Красноярских лагерей, привезли около сорока японских офицеров, так называемых "военных преступников" (хотя в чём они провинились перед нами — придумать нельзя). Стояли сильные морозы. Лесоповальная работа, непосильная даже для русских. Отрицаловка[135]быстро раздела кое-кого из них, несколько раз упёрла у них весь лоток с хлебом. Японцы в недоумении ожидали вмешательства начальства, но начальство, конечно, и внимания не обращало. Тогда их бригадир полковник Кондо с двумя офицерами, старшими по званию, вошёл вечером в кабинет начальника лагпункта и предупредил (русским языком они прекрасно владели), что если произвол с ними не прекратится, то завтра на заре двое офицеров, изъявивших желание, сделают харакири. И это — только начало. Начальник лагпункта (дубина Егоров, бывший комиссар полка) сразу смекнул, что на этом можно погореть. Двое суток японскую бригаду не выводили на работу, нормально кормили, потом увезли со штрафного.
Как же мало нужно для борьбы и победы — только жизнью не дорожить? жизнью-то всё равно уже пропащей.
Но, постоянно перемешивая с блатными и бытовиками, нашу Пятьдесят Восьмую никогда не оставляли одну, — чтоб не посмотрели друг другу в глаза и не осознали бы вдруг — кто мы. А те светлые головы, горячие уста и твёрдые сердца, кто мог бы стать тюремными и лагерными вожаками, — тех давно по спецпометкам на делах — отделили, заснули кляпами рты, спрятали в специзоляторах, расстреляли в подвалах.
* * *
Однако, по важной особенности жизни, замеченной ещё в учении Дао, мы должны ожидать, что когда не стало политических — тогда-то они и появились.
Я рискну теперь высказать, что в советское время истинно-политические не только были, но:
1. Их было больше, чем в царское время, и
2. Они проявили стойкость и мужество бульшие, чем прежние революционеры.
Это покажется в противоречии с предыдущим, но — нет. Политические в царской России были в очень выгодном положении, очень на виду — с мгновенными отголосками в обществе и прессе. Мы уже видели (часть первая, гл. 12), что в Советской России социалистам пришлось несравнимо трудней.
Да не одни ж социалисты были теперь политические. Только сплеснутые ушатами в пятнадцатимиллионный уголовный океан, они невидимы и неслышимы были нам. Они были — немы. Немее всех остальных. Рыбы — их образ.
Рыбы, символ древних христиан. И христиане же — их главный отряд. Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни составить подпольного воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагеря на мучение и смерть — только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что сидят, и были неколебимы в своих убеждениях! Они единственные, может быть, к кому совсем не пристала лагерная философия и даже язык. Это ли не политические? Нет уж, их шпаной не назовёшь.
И женщин среди них — особенно много. Говорит Дао: когда рушится вера — тогда-то и есть подлинно-верующие. За просвещённым зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках, — мы проглядели, что у грешной православной церкви выросли всё-таки дочери, достойные первых веков христианства, — сёстры тех, кого бросали на арены ко львам.
Христиан было множество, этапы и могильники, этапы и могильники, — кто сочтёт эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая, как свеча, только в самой близи от себя. Это были лучшие христиане России. Худшие все — дрогнули, отреклись и перетаились.
Так это ли — не больше? Разве когда-нибудь царская Россия знала столько политических? Она и считать не умела в десятках тысяч.
Но так чисто, так без свидетелей сработано удушение, что редко выплывет нам рассказ об одном или другом.
Архиерей Преображенский (лицо Толстого, седая борода). Тюрьма-ссылка-лагерь, тюрьма-ссылка-лагерь (Большой Пасьянс). После такого многолетнего изнурения в 1943 вызван на Лубянку (по дороге блатные сняли с него камилавку). Предложено ему — войти в Синод. После стольких лет, кажется, можно бы себе разрешить отдохнуть от тюрьмы? Нет, он отказывается: это — не чистый Синод, не чистая церковь. И — снова в лагерь.
А Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877–1961), епископ Лука и автор знаменитой "Гнойной хирургии"? Его жизнеописание, конечно, будет составлено, и не нам здесь писать о нём. Этот человек избывал талантами. До революции он уже прошёл по конкурсу в Академию Художеств, но оставил её, чтобы лучше служить человечеству — врачом. В госпиталях первой мировой войны он выдвинулся как искусный хирург-глазник, после революции вёл ташкентскую клинику, весьма популярную по всей Средней Азии. Гладчайшая карьера развёртывалась перед ним, какой и шли наши современные преуспевшие знаменитости, — но Войно-Ясенецкий ощутил, что служение его недостаточно, и принял сан священника. В операционной он повесил икону и читал студентам лекции в рясе с наперсным крестом (1921). Ещё патриарх Тихон успел назначить его ташкентским епископом. В 20-е годы Войно-Ясенецкий сослан был в Туруханский край, хлопотами многих возвращён, но уже заняты были и его врачебная кафедра и его епархия. Он частно практиковал (с дощечкою "епископ Лука"), валили валом больные (и кожаные куртки тайком), а избытки средств раздавал бедным.
Примечательно, как его убрали. Во вторую ссылку (1930, Архангельск) он послан был не по 58-й статье, а — "за подстрекательство к убийству" (вздорная история, будто он влиял на жену и тещу покончившего с собой физиолога Михайловского, уже в безумии шприцевавшего трупы растворами, останавливающими разложение, а газеты шумели о "триумфе советской науки" и рукотворном "воскрешении"). Этот административный приём заставляет нас ещё менее формально уразуметь, кто же такие истинно-политические. Если не борьба с режимом, то нравственное или жизненное противостояние ему — вот главный признак. А прилепка «статьи» не говорит ни о чём. (Многие сыновья раскулаченных получали воровские статьи, но выявляли себя в лагерях истинно-политическими.)