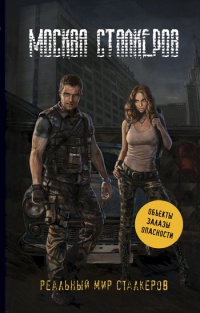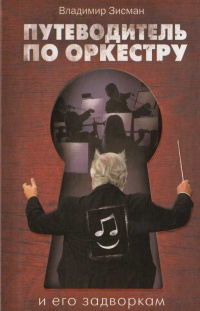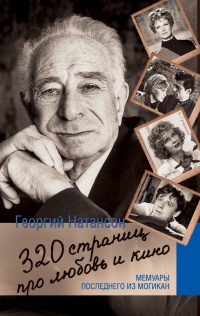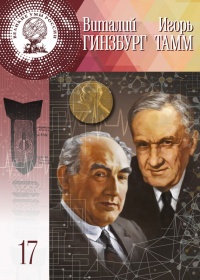Книга 58-я. Неизъятое - Анна Артемьева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Не беспокойтесь, ничего особенного, ваш муж арестован.
— Какие дурацкие шутки, — говорю я.
— Это не шутки, — говорит Револьт, улыбается и, не поднимаясь (ему было запрещено вставать), привлекает меня к себе. Все время обыска мы издевательски сидели в обнимку, кажется, я даже была у него на коленях.
* * *
Через два дня меня вызвали в КГБ. Пришли вечером, показали удостоверения. Я сказала, что не могу — я преподавала в вечерней школе, и приду завтра утром. Предложила: «Если не верите — возьмите у меня паспорт».
— Не беспокойтесь, мы вам дадим справочку.
И тут я, сама не зная почему — от растерянности? — задала вопрос: «А зубную щетку брать?»
* * *
Меня допрашивали человек шесть. Сразу начали спрашивать: кто бывал у нас дома? О чем говорили? Куда я дела чемодан с бумагами Пименова?..
— Какой чемодан? Чемодан с веревками я отвозила к свекрови, потому что она переезжала…
— Что вы нам голову дурите, веревки нас не интересуют, куда вы дели документы?
Речь шла о бумагах Револьта. Когда его арестовали, я сложила его дневники в чемодан под веревки, которые везла к свекрови, и по дороге спрятала у знакомых. Дневники были совершенно несерьезные, я прятала их не ради Револьта, а потому, что он давал в них характеристики своим однокурсникам и друзьям, и мне не хотелось, чтобы их тоже таскали в КГБ.
В итоге весь допрос мы со следователем толкли воду в ступе: он спрашивал про чемодан, я твердила про веревки. Около полуночи вошел какой-то дяденька, сказал: «Поскольку вы так плохо себя ведете, мы решили оставить вас у себя».
Сейчас я понимаю, что если бы сразу сказала: «А, бумаги! Да вон они, берите», — меня бы выпустили. У них не было намерения меня арестовывать. Я просто не нашла с ними общий язык. Подозреваю, я бы и сегодня его не нашла.
Что делать, в нашей большой стране живут разные граждане…
Мы с Револьтом очень увлеченно занимались распространением информации обо всем, что происходило во время этого, в общем, очень интересного оттепельного периода, записывали на машинке и распространяли по знакомым. Поэтому в тюрьме КГБ я сразу решила: мне надо все это запоминать. Мы по кусочкам собираем информацию, а тут я прямо у источника: вот так кормят, такой вот режим, вот оно, тюремное окошко… Это ж неоценимо! Первые дни я была поглощена этим. Через несколько дней стало тоскливо. Я уже познакомилась, хватит, надо меня выпускать.
* * *
С точки зрения режима в тюрьме все оставалось, как в 37-м, но общее состояние духа изменилось. Никаких ночных допросов, следователи уходили с работы в пять часов вечера. Надзиратели тоже вели себя по-другому, некоторые нам явно сочувствовали. Однажды я постучала в стенку, чтобы узнать, есть ли кто в соседней камере. Тут же открылась дверь и надзиратель, вместо того чтобы отправить меня в карцер, сказал: «Что стучишь? Нет там никого».
Под новый 1958 год в моей камере открылась кормушка и охранник протянул мне лапочку елочки. Не знаю, кто это сделал, но до сих пор не могу это забыть.
* * *
На допросе я попала в дурацкое положение. Меня вызвали, рядом со следователем сидит еще какой-то мужчина в погонах. Следователь говорит: «Не возражаете, если во время нашей беседы будет присутствовать…» — и называет должность. Я, вежливая девочка, говорю: «Очень приятно». Они переглянулись…
В этот день мне предъявили обвинение. В нем были формулировки: «принимала участие в распространении», «предоставляла свою квартиру для сборищ группы…», делала попытки «скрыть документы, изобличающие преступника» и… ну и все. Я понимала, что никакой группы не было, просто Револьт иногда приглашал своих друзей. А я щи варила. Револьт еще учил меня, как это делать…
Никакого страха у меня не было. Я же знала, что меня не посадят. Даже после следствия я все еще думала: ну, суд-то разберется!
* * *
Она сложная, эта лагерная жизнь, неоднозначная… В первые дни после ареста меня перевели из одиночки в камеру, где сидела пожилая женщина. Она обволокла меня заботой, чуть ли не материнской, все предупреждала, что в лагере я не должна никому доверять… Я отмахивалась:
— Да не попаду я ни в какой лагерь, ни за что же сижу!
Через почти 50 лет, в 90-х годах, я узнала, что это была наседка (осведомитель. — Авт.). Я стойко держалась, но когда она сказала, что выходит на свободу, — все, ее вызывают с вещами! — я дала ей телефон друзей, у которых спрятала дневники Револьта, попросила позвонить им и сказать, что все благополучно. Я ничего не сказала — но на самом деле в этот момент всех выдала.
Нас судили в горсуде. За барьером для подсудимых оказалось всего два стула, а нас было пятеро (обвиняемыми по делу кроме Револьта Пименова и Ирины Вербловской проходили Борис Вайль, Игорь Заславский и Константин Данилов. — Авт.), и Боря Вайль тут же сострил:
В городском суду играет духовой оркестр,
На скамейке подсудимых нет свободных мест.
Мы так радовались друг другу! Суд идет, а мы за руки беремся…
Суд приговорил Пименова к шести годам, Вайля — к трем, Данилова, Заславского и меня — к двум. Мы дружно решили жаловаться. Через несколько дней нам принесли извещение о том, что прокурор подал протест на приговор «за мягкостью наказания». Еще бы, столько времени возиться — и такие сроки! Приговор отменили, назначили новый суд.
На нем прокурор попросил Револьту максимальные 10 лет, мне и Заславскому — четыре, Вайлю — восемь, Данилову — три.
Судья согласился с прокурором. Отступил только ради меня: вместо четырех дал пять.
Зал охнул. Ощущение абсурда у меня не проходило.
В лагере. Тайшет, 1959
В мое время состав заключенных был уже не такой, как при Сталине. Нас, деятельных людей, было мало. Сидели в лучшем случае соучастники, чаще — жертвы.
Интеллигенции стало гораздо меньше. У нас сидела так называемая «лагерная 58-я». Рецидивистки, которые понимали, что никогда не выйдут на свободу, сообразили, что с политическими сидеть лучше, чем с бытовиками: они посылки получают и с ними легко разделаться, выбрасывали в лагере какой-нибудь антисоветский лозунг, получали срок по 58-й и попадали к нам. Антисемитизм был ужасный. Прямой агрессии не было, но я всегда помнила, что я чужая, и если что-то не так, все сразу могут сказать: ну она ж неполноценная…