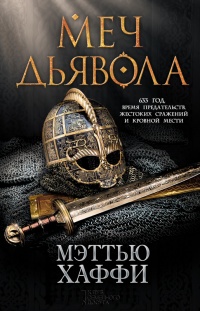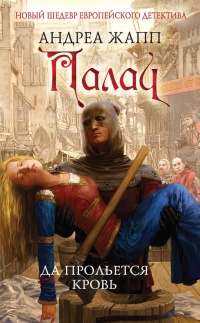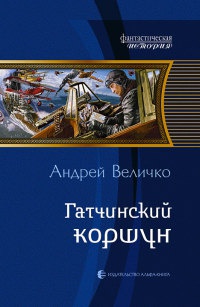Книга Сен-Жюст. Живой меч, или Этюд о счастье - Валерий Шумилов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Для Робеспьера же настоящее всегда было важнее прошлого. В настоящем же Кутон был образцом семейной добродетели и, что еще важнее, надежным соратником в борьбе за установление абсолютной Добродетельной Республики, какая виделась Робеспьеру.
Сен-Жюст это тоже понимал, но никогда не мог заставить себя относиться к добродетельному в настоящем Кутону так, как к изначальному Робеспьеру. Между ним и Жоржем не возникло даже подобие той дружбы, которая стала связывать его с Максимилианом, надо сказать, странной дружбы – холодной, манерной, но временами – полной пылких мечтаний о будущем, которое они должны были вместе построить во Франции. С Кутоном же они не стали особенно близки ни тогда, ни много позже, когда враги свели их в один триумвират. Правда, произошло это значительно позже, а пока, в первые дни Конвента, Кутон продолжал держаться особняком и, несмотря на то, что сидел на Горе, поддерживал дружеские отношения с жирондистами. С Сен-Жюстом он вообще не общался, а Робеспьера в кулуарах Конвента и вовсе как-то назвал «негодяем, стремящимся к диктатуре». Потом Антуан понял: добряк Кутон долгое время принимал их с Максимилианом скованную и холодную манеру держаться за черствость натуры.
12 октября 1792 года все переменилось – в Якобинском клубе Кутон, больше года сохранявший по отношению к жирондистам нейтралитет, внезапно высказался о своем решительном с ними разрыве.
– Их партия, – сказал он, – состоит из людей хитрых, ловких, интриганов и, главное, крайне честолюбивых… Именно на эту партию, которая хочет свободы только для себя, надо обрушиться всей силой… Я прошу моих коллег по Конвенту собираться здесь, чтобы договориться о мерах борьбы с этой партией; я ничего не опасаюсь для себя, но я опасаюсь всего, что может грозить отечеству.
Через год Кутон признался Антуану, что пойти на разрыв с партией Бриссо его заставило чувство личного раздражения: за день до этого Жиронда не включила «патриота Кутона» в состав Комитета по выработке конституции, куда он так стремился. Участвовать в создании новой конституции было сильнейшим желанием и самого Сен-Жюста, но, не имея тогда никакого имени, он не мог об этом даже мечтать. В конституционный комитет вошли шестеро жирондистов: Бриссо (глава партии), Верньо и Жансонне (лучшие ораторы партии), Петион (бывший парижский мэр), Кондорсе (единственный из доживших до революции авторов «Энциклопедии», избранных в Конвент), Томас Пейн (знаменитый американец, друг Вашингтона, известный как «Здравый смысл» – по наименованию своей главной революционно-пропагандистской брошюры времен войны за независимость) и три «оппортуниста»: политически бесцветный Сиейес, все время меняющий свою окраску многоговорящий Барер и, наконец, сам «великий соглашатель» Дантон. Избрание последнего было большой уступкой ему со стороны правящей фракции, потому что совсем недавно – 29 сентября – при бурном обсуждении вопроса о том, можно ли оставить Ролана на посту министра, после того как со своих министерских постов ушли и Серван и сам Дантон, «Марий санкюлотов» не выдержал и, когда Конвент все же особым голосованием пригласил министра внутренних дел остаться на своем месте ввиду того, что его отставка грозит «общественным бедствием», нанес смертельное оскорбление всей Жиронде, саркастически заметив: «Если вы все же хотите сохранить Ролана, то не забудьте пригласить также и госпожу Ролан, ибо всему свету известно, что ваш протеже не был одинок в своем министерстве. Я работал один, а нация нуждается в министрах, способных действовать не по указке своих жен!»
Сен-Жюст хорошо понимал освиставших после этого Дантона жирондистов: оскорблять женщину – был и недостойный и запрещенный прием для просвещенных людей XVIII столетия, названного «галантным веком». Был согласен он и с Кутоном, предложившим после разрыва с «государственными людьми» превратить Якобинский клуб в штаб депутатской фракции монтаньяров в противовес жирондистам, собиравшимся на частных квартирах.
Но уверенность Кутона (и Робеспьера) в действенности этой меры Сен-Жюст не разделял: якобинцам было далеко до боевитости парижский секций – в Якобинском клубе только говорили, – поприсутствовав на десятке заседаний, представитель департамента Эна убедился в этом совершенно и в одночасье охладел к детищу Робеспьера. Если на что якобинцы и годились, так это на определенное формирование общественного мнения и на оттачивание на «клубной массе» ораторских приемов, чем, собственно, и занимался все эти годы Максимилиан. Антуан решил последовать его примеру и 22 октября дебютировал перед якобинцами своей предназначенной для Конвента речью о департаментской страже:
– Если учреждение национальной стражи вокруг нас продиктовано стремлением к власти, я отпускаю свою часть этой стражи и отсылаю ее назад, чтобы вооружить народ для борьбы против его угнетателей, – с сарказмом и без какой-либо тени смущения обратился он к своей первой парижской аудитории, слушавшей его с большим вниманием (Робеспьер постарался).
Сен-Жюст обвинил жирондистов в том, что, на словах выступая против «федеративности», они создают ее на деле тем, что выделяют «часть граждан из общей массы». Выделяют как депутатов, которые с помощью подчиненных им войск могут «установить тиранию», так и сами войска, которые тоже могут, вообразив себя «преторианской гвардией», продиктовать свою волю самим депутатам. Ко всему прочему опасно бросать вызов Парижу, формируя в противовес столичному гарнизону собственные вооруженные части, не говоря уж о том, что никто не гарантирован, что и сама эта хваленая департаментская стража не перейдет на сторону провоцируемых Конвентом парижан.
В последнем заявлении Сен-Жюст как в воду глядел: в марте следующего года департаментские федераты, прибывшие в столицу, несмотря на отсутствие соответствующего декрета, приняли прямое участие в антижирондистских выступлениях.
И еще в этой своей первой речи, как потом оказалось, Антуан «напророчил» самому себе будущему, заявив, что создание департаментской охраны Конвента не только не «вернет спокойствие государству», но и приведет к прямо противоположному результату. Ведь если власть не хочет использовать против народа вооруженную силу, то для чего тогда ей эту вооруженную силу призывать? Использующий силу в политических целях даже во имя самых высоких принципов сначала подпадает под соблазн править силой, а потом и вообще превращается в тирана.
– Узурпацию всегда распознают слишком поздно! – гордо заявил юный дебютант и под шумные аплодисменты зала спустился с трибуны.
В этот момент он сразу понял, что не будет зачитывать речь в Конвенте, настолько политически малозначащей она ему вдруг показалась.
Впечатление это особенно усилилось после так называемой «робеспьериады», которую жирондисты выплеснули на голову Неподкупного через маленького плешивого депутата Луве, автора известного любовно-приключенческого романа «Фоблаз». По иронии судьбы, за день до этого Робеспьер выступил в Якобинском клубе с большой, хотя и невнятной речью «О влиянии клеветы на Революцию». А на следующей день 29 октября он удостоился, пожалуй, самой большой клеветы на себя за все предшествующие три с половиной года.
Слушая романиста Луве, Сен-Жюст немало удивлялся, как хитроумносплетенным литературным периодам его речи с постоянно повторяющимся рефреном «Робеспьер, я обвиняю тебя!», так и полной бездоказательности этого по сути дела обвинительного акта. Потому что любого из оставшихся на плаву революционных лидеров можно было обвинить в том же самом, что и Робеспьера: и в «клевете на патриотов», и в выставлении себя в качестве «объекта идолопоклонства», и даже в провоцировании «сентябрьских убийств» (в сентябре жирондисты одобряли их не меньше якобинцев).