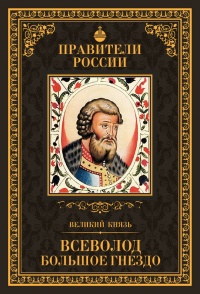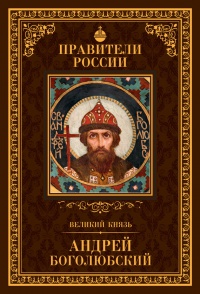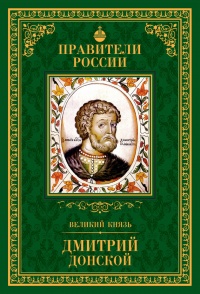Книга Иван Калита - Максим Ююкин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Прямо из Новагорода Иван Данилович поехал в Орду. Это путешествие было уже четвертым в его жизни, но в то же время и совсем непохожим на прежние, а потому особенно волнующим. Впервые Иван Данилович предстанет перед ханским двором в качестве великого князя Володимерского, и это обстоятельство наполняло его душу смешанным чувством гордости и тревоги. Иван Данилович понимал, сколь многое в его судьбе будет зависеть от того, насколько Узбека удовлетворят плоды его деятельности в новом сане. Между тем далеко не все здесь было просто и однозначно. Хана занимали преимущественно две вещи: дань и беспрекословное повиновение его воле со стороны всех русских князей. И если по первому вопросу Ивану Даниловичу было чем ублажить сарайского повелителя — все русские люди, от великокняжеских слуг, скакавших, загоняя лошадей, во все концы Руси, чтобы вовремя доставить в казну своего господина полагавшийся выход, до последнего сироты, приносившего тиуну несколько завернутых в тряпицу медных гривен, хорошо прочувствовали на себе, сколь велико стремление великого князя отличиться перед далеким и страшным владыкой! — то со вторым дело обстояло несколько хуже. Узбек ясно выразил свою волю: Александр Тверской должен предстать перед ханским судом! Но, к неизъяснимой досаде Ивана Даниловича, бывший великий князь благополучно избежал всех попыток принудить его исполнить строгий ханский приказ, сначала укрывшись за могучими стенами плесковского Крома, а теперь и вовсе ускользнувший из пределов досягаемости великокняжеской власти: Гедимин — это тебе не Солога. Поэтому долгие дни пути проходили у Ивана Даниловича в обдумывании ответа на неизбежный ханский вопрос о том, почему не исполнена его воля.
В Твери к великокняжескому поезду присоединился князь Константин Михайлович. Приняв после бегства Александра в Плесков княжеский венец, на котором еще играли отблески отпылавшего в Тверской земле пожара, Константин, казалось, тяготился полученной им властью. Пережитое в отрочестве потрясение, когда он едва не стал свидетелем убийства собственного отца и сам чуть было не разделил его участь, не прошло для молодого князя бесследно: Константин вырос робким, нерешительным и податливым на чужое влияние. Но именно эти черты его характера полностью устраивали Ивана Даниловича, ибо делали Константина послушным орудием в его цепких руках. У великого князя даже возникло к Константину Михайловичу нечто вроде симпатии. Заметив, что Константин держится в его присутствии настороженно и отчужденно, Иван Данилович попытался сломать разделявшую их стену, скрепляющим раствором в которой служила кровь Константинова отца и тысяч других тверичей, пролитая по вине или, по крайней мере, при деятельном участии московских князей.
— Ты, Константине Михайлыч, верно, зло на меня затаил, мыслишь, что это я Азбяка подбил разорить вашу землю, дабы вас, ослабленных, мне сподручнее одолеть было, — как можно добродушнее сказал Иван Данилович мрачно молчавшему тверскому князю, когда буланый конь Константина поравнялся со скакуном великого князя, которого Иван Данилович нарочно придержал, чтобы иметь возможность поговорить с молодым человеком, — но ты рассуди: нечто мог я ослушаться цесарева веленья? Тогда и с моею землею тако же бы сотворили. Каждому о своей вотчине в первую голову печься приходится.
Константин сперва промолчал, хотя на языке у него вертелся язвительный ответ: подбивал ты Азбяка или нет, а воспользоваться тверской замятней сумел весьма ловко! Но, проехав несколько шагов, негромко произнес, не глядя на собеседника:
— Знаешь, Иване Данилыч, когда отец ожидал в Орде суда, он все боялся помереть без покаяния, беспрестанно причащался святым дарам. Ему казалось, что это самое страшное — отойти ко господу, не исповедавшись в своих грехах. Но он ошибался: куда страшнее явиться на божий суд с грузом таких прегрешений, кои не искупить никакими таинствами, ибо они безмерны. Участь сих несчастных — геенна огненная.
На пятнадцатый день после выезда из Твери князья остановились на ночлег в Рясском городе. Появление столь высоких гостей не на шутку взбаламутило тихую, скучную жизнь в скромной вотчине князя Бориса Мстиславича. Хозяин, уже старый, с густо разветвившимся по лицу скорбным древом морщин, не жалел припасов из своих погребов и вконец извел Ивана Даниловича и Константина своим навязчивым, угодливым гостеприимством.
— В Орду, стало быть, направляешься, Иване Данилыч? — медоточивым голоском почтительно осведомился он, умильно глядя в глаза великому князю. — Что ж, дело святое: ныне ты за всю Русскую землю печальник, аки Иосиф у фараонова престола. На тебя мы все глядим с надеждою... А позволь полюбопытствовать: сколько же с тебя поганые за все про все требуют? Поди, нелегко было эдакую прорву пенязей собрать?
— А что это ты, Борисе Мстиславиче, пенязи в моей мошне считать принялся? Али в казначеи ко мне метишь? Княжить, что ль, наскучило? — отшучивался Иван Данилович.
— Наскучить-то не наскучило, — вздохнул в ответ рясский князь. — Токмо больно уж мала моя вотчина: ежели каждого сына на удел посадить, так и городков не хватит. Ты бы, Иван Данилыч, похлопотал в Сарае, может, мне еще ярлычок какой дадут, хоть на самое завалящее княженьице, а? Век бы за тебя бога молил! — вкрадчиво молвил он, с робкой, просительной улыбкой глядя на великого князя.
Иван Данилович на мгновение отвернулся, чтобы скрыть просившуюся на уста презрительную усмешку.
— Что ж, Борисе Мстиславиче, — медленно произнес он, беря с блюда пухлую кулебяку, — коли тебе тесно на своей земле, так уж и быть, избавлю тебя от сего бремени, отпишу твою вотчину в великокняжью казну. Тебя с сынами на службу к себе возьму, там на месте не засидитесь.
Рясский князь с испугом взглянул на гостя, пытаясь понять, шутит ли он или говорит серьезно.
— Что ты, княже, что ты, — торопливо забормотал он, в душе кляня себя за то, что затеял этот разговор. — Это я так токмо сказал... Мало ли что... А княженьем своим я доволен. Мне-то что? Для сынов хотел постараться...
С трудом дождавшись конца унылого пиршества, Иван Данилович вышел во двор. Наплывающие сумерки уже зажгли снег таинственным голубоватым светом; они вязли в корявом черном неводе темневшего позади хором княжьего сада, сочились сквозь безмолвно истекавшие призрачно-белыми струйками голые ветки, наполняя душу радостным целительным покоем, с которым странно не сочетался резкий, суетливый шум, непрерывно доносившийся со стороны стряпни, и торопливое снование слуг, уносивших из гридницы остатки княжьей трапезы.
Прогуливаясь по саду, Иван Данилович услышал чьи-то оживленные голоса. Три юные девушки — одна в длиннополой собольей шубе, другие — очевидно, служанки — в простеньких войлочных опашнях — забавлялись, бросая друг в дружку снежки. Беззаботно смеясь, они перебегали от одного дерева к другому и, прячась за ними, норовили подобраться как можно ближе к сопернице, чтобы уж наверняка поразить ее метким и по возможности безответным броском. Заметив приближающегося к ним незнакомого человека, девушка в шубе испуганно застыла на месте, смех замер у нее на устах; смущенно потупившись, она торопливо оправила сбившийся к макушке платок, из-под которого вытекла прядь золотистых волос, и отряхнулась. С удовольствием и внезапно подступившим сладким томлением князь поглядел на ее хорошенькое круглое раскрасневшееся личико и приветливо улыбнулся.