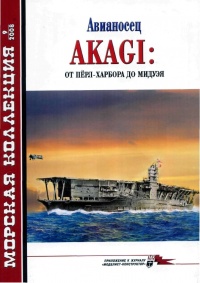Книга Галерные рабы - Юрий Пульвер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из полузабытья Сафонку вывели голоса — веселый Нури-бея, сразу видно, что пьяненького, и мрачный — Будзюкея:
— Зря, зря, эфенди, ты отказался от угощения…
— В святом Коране записано: «Они спрашивают тебя о вине и мейсире, скажи: в них и прегрешение великое, и полезность, но греха в них больше, чем пользы».
— Ну, Аллах грехам терпит и, надеюсь, не накажет меня за столь малую слабость, в которой не отказывают себе сильные мира сего! Да и какая разница, чем хмелить себя — виноградным соком или кумысом, торосуном-бузой, как вы, татары? Что ж, пришел час расставания, досточтимый Будзюкей-мурза. Приглянувшиеся тебе товары сейчас собирает мой слуга, он понесет их за тобой. Эй, будущий защитник веры! — окликнул купец Сафонку. — Хватит валяться, поклонись напоследок своему бывшему господину!
— Прощевай, благодетель! — процедил сквозь зубы Сафонка, не вставая. — Очень хочу с тобой еще разок встретиться… и отблагодарить за все, что ты для меня сделал, как подобает.
— Я буду ждать этого часа, урус, и уж тогда никому тебя не продам, оставлю для услаждения своей души, — тоже иносказательно и тоже с неприкрытой угрозой ответил мурза.
В глубине души он был несказанно рад избавиться от урус-шайтана. В одном котле тесно двум баранам. Подумать только, этот пособник Иблиса проклятого обещал сделаться упырем и преследовать его, Будзюкея, род до Страшного суда! Теперь отец гяура похоронен, как сам завещал в вещем сне. Урус уже чужой невольник. Значит, страшная клятва отныне потеряла силу, и загробная месть не грозит ему, Будзюкею. Так, может, располовинить дамасским булатом эту бешеную собаку?! Коран учит: «А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то — мечом по шее». Нет, жалко сотни золотых, придется их возвращать пьянице-торгашу. Да и какой ныне от уруса вред, он через два-три месяца очутится на галерах, а через два-три года — у шайтана в гостях. Так что вряд ли стоит, согласно древнему обычаю, давать своему будущему сыну его имя, чтобы младенец прибавил к своим летам годы, прожитые врагом. Нет, скорее отсюда в родные кочевья, понюхать лоб[136]женам и детям…
Не тратя своего красноречия на препирательства с рабом, Будзюкей отвернулся и пошел по сходням на причал.
Сафонке страсть как захотелось прыгнуть на спину татарюги-шишморника и свернуть вязы — крестоцелование больше не сдерживало его. Да удастся ли голыми руками задушить идолище поганое до того, как подоспеют кэшиктены и охрана Нури-бея? Тогда сделка сорвется по его, Сафонкиной, вине, он окажется вновь в руках мурзы — и будет клятвопреступником.
И парень не двинулся с места, только просверлил затылок удаляющегося ногайца злобным взглядом-буравом.
Нури-бей, хоть и во хмелю, сумел уловить за внешне невинным обменом фраз какой-то потаенный смысл, который очень ему не понравился. Учел он и враждебный тон, и гневные взоры, коими обменялись русский и татарин. У купца стало нехорошо на душе, появилось предчувствие, что придется еще пожалеть о покупке.
Предчувствие его не обмануло.
Сафонка же подумал, что теперь он ничем не связан, впереди свобода или смерть, и какие бы испытания ни ждали его в грядущие годы, хуже того, — что с ним произошло, ничего случиться не может.
В отличие от Нури-бея он здорово ошибался. И понял это на другой же день, когда тяжелогруженая мауна, стремясь до зимних штормов достичь Истамбула, отправилась под всеми парусами в путь по неспокойному морю, пока дул крепкий попутный ветер.
Плеск воды преследовал Сафонку повсюду, доводя до бешенства, вдобавок на него навалились тошнота и головокружение. День и ночь он лежал влежку, мечтая об одном — чтобы проклятое корыто скорее пошло на дно. Это было хуже, чем порка, чем боль, голод и холод, чем все, что он испытал доселе.
Сафонка ничего не ел и не пил — впрочем, ему никто и не предлагал. Наутро на него обратил внимание новый хозяин:
— Морской болезнью маешься, будущий беглер-бег? Свесься за борт да сунь два пальца в рот, только сам не выпади. Не стыдись, в дозволенном нет срама, а когда необходимо, и запретное допустимо. Кстати, тебе не холодно на палубе? Или вам, русским, любые морозы нипочем?
— Хлад нипочем, когда шубы да шапки греют! А ночью мне до жути зябко, в коврик заворачиваюсь да зубами стучу. Ты бы меня вниз, что ли, ночевать пустил…
— Ни с матросами, ни с рабами тебе вместе быть нельзя — ты пока для всех чужой. Я тебе теплую джуббу[137]дам, сапоги, одеяло и миндер — подушку для сидения, чтобы не простыл на свежем воздухе. А уж если дождь пойдет, ляжешь перед моей каютой вместе со слугами. И подойди к повару, возьми поесть, а то с лица спал… Как я тебя, худого да измученного, в йени-чери продавать буду?
На другой день море стало намного спокойнее — и Сафонкин желудок тоже. Оклемался он, поел, поспал — и пошел к новому хозяину.
— Досточтимый Нури-бей, я благодарен тебе за заботу и хотел бы предложить кое-что, дабы возместить ущерб, причиненный моей покупкой…
— «Беседа с пустословом подобна белой горячке», — рек мудрый Али-Сафи. Разве ты понимаешь в торговле, что вознамерился учить меня?! Неужто не ведаешь: кто нагл, тот теряет, кто невежа, тот раскаивается!
— Ты прав, хозяин. У моего народа тоже есть пословица: «Умный любит учиться, дурак — учить». Но я-то не дурак, не тебя учить пришел, а просить, чтобы ты меня поучил языку турецкому. Мне так легче службу справлять будет, и ты меня выгоднее продашь. Может, я ошибся, что осмелился тебя побеспокоить…
— М-да… Самая большая ошибка — не видеть своих ошибок, утверждают арабы. Ошибся я, а не ты. Я сам буду учить тебя, когда время позволит, и те из моих слуг, кто знает татарский. Надеюсь, к какому-либо маулиду, дню рождения пророка или одного из святых, я отдам тебя в руки муллам и проповедникам-хатибам, и ты по-турецки выразишь согласие стать мусульманином. За это Аллах милосердный простит мне мои прегрешения. Светлая у тебя голова, русский! Когда станешь янычар-агой, не забудь, что именно я вывел тебя на дорогу к богатству, почету и славе!
Сафонка лишь поклонился, улыбнувшись про себя, и мысленно повторил отцовское присловье: «Ведать чужую мову — что оружье потайное иметь». Вложи еще один меч в мои ножны, хозяин. Как сбегу с галеры, турецкий, латинский да татарский языки мне ой как сгодятся. И пока учиться буду, время в неволе быстрее пролетит.
Действительно, три недели, в какие мауна добиралась до Истамбула, миновали незаметно. Шел корабль вдоль берега, заходя в порты, торгуя. Нури-бей хоть и желал попасть в столицу до штормового сезона, выгоду упускать не хотел. Сафонке то было наруку: он стремился получше научиться вражьей мове, отдохнуть да отъесться на хозяйских харчах. Для того упросил купца сразу не продавать, подождать с месяц. Тот согласился. Ему нравился молодой невольник, и он сам охотно занимался с ним.