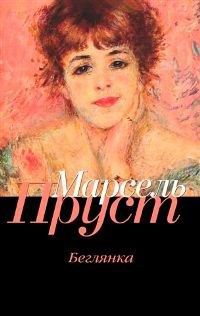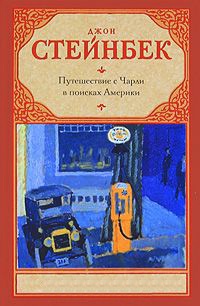Книга В поисках грустного беби : Две книги об Америке - Василий Павлович Аксенов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Принятие гомосексуализма просто как элемента жизненного многообразия — это одно дело, а пропаганда гомосексуализма, прошу прощения, все-таки ведет к тупику. Тупик на греховной дорожке человеческой расы; листва опадает навеки, и отмирают деревья.
Американская одержимость своими одержимостями очень часто почему-то связана с нижними этажами нашей сути, с проблемами пола. В американской половой жизни, в отличие, скажем, от французской или английской, покоя нет — вечные, так сказать, поиски.
Вот, скажем, женское движение, то есть движение женского пола против мужского. Спору нет, «беби» прошли долгий путь, чтобы перестать быть «беби». Нынче я уже как-то научился различать взгляды этих «амазонок», поставивших целью загнать в загон уцелевшие еще табуны американских кентавров, но поначалу они были для меня сущей загадкой.
Расскажу о довольно курьезном столкновении с движением феминисток в первый год нашей американской жизни.
Мадам Совценз
На кампусе большого университета проходила международная конференция «Писатель и права человека». Одна из «панелей» была посвящена цензуре. Слово «цензура», как ни странно, в русском языке относится к женскому роду. Английскому уху это, может быть, и смешно, но именно так обстоят дела в нашем «великом-могучем-правдивом-свободном» (как в свое время прокламировал русский язык Иван Тургенев, что дало нам возможность соорудить довольно удобный, хоть и напоминающий слегка военно-морские силы акроним ВМПС); итак, в нашем ВМПС не только среди вещественных, но и среди отвлеченных понятий существует половое различие. Например, «радость» — это женщина, а «восторг» — мужчина. Существуют также и слова, аморфно проплывающие по разряду «среднего пола», например, — «государство»; таковых, леди и джентльмены, великое множество. Большое раздолье для фрейдистских (феминистических или гомосексуалистических) структуральных толкований.
В чешском языке, очевидно, царит такое же безобразие. Иначе почему выступавший передо мной чешский писатель Иржи Груша несколько раз по отношению к «censorship» употреблял местоимение «she»?
Мы сидели за длинным столом, несколько писателей-беженцев и несколько писателей-хозяев, то есть американцев. Среди беженцев были чех, русский, поляк, южноафриканец, аргентинец и чилиец. С последним, правда, произошла небольшая накладка.
Он был молод и выглядел, как настоящий революционный, левого крыла изгнанник: свитер, продырявленный на локтях, мятежные кудри а-ля Че, взгляд, отражающий блики «пылающего континента». Все этому юноше ужасно сочувствовали, еще бы, вырвался из лап режима Пиночета, как вдруг оказалось, что он «вырвался из лап» только на время вот этой конференции, по завершении которой добровольно в эти лапы возвращается. Оказалось, что юноша — издатель левого литературного журнала в Сантьяго — никакой и не беженец вовсе, а просто гость. Выступит здесь, ударит по цензуре, а потом свободно вернется в свою продолговатую страну продолжать дерзкую литературную деятельность. Мне как редактору разгромленного «Метрополя» это была наука — не сочувствуй по пустякам.
Вернемся, однако, к Иржи Груше, который только что завершил свою речь чем-то вроде общеславянской декларации:
«She would never ever succeed in her attempt to suppress the creative spirit of Central Europe![129]»
Наши хозяева, то есть американские писатели, поначалу при слове «she» чуть-чуть вздрагивали, но потом привыкли. К их чести надо сказать, что они всегда очень тактичны в отношении наших усилий изъясняться на языке Шекспира.
Настала моя очередь щегольнуть своим английским, который одна журналистка охарактеризовала как epigrammatical rather than grammatical[130]. Подмигнув своему симпатичному товарищу по драпу, я сказал, что если «цензура» в соответствии с нашими славянскими делами — это «она», следует предположить, что это довольно истеричная дама. Когда-то она была молода и некоторые даже находили ее привлекательной. Она сама себе все испортила, требуя от всех без исключения окружающих всепоглощающей и безоговорочной любви. С возрастом, однако, советская цензура, или мадам Совценз, вдруг обнаружила утечку этого единодушного чувства. Появились некоторые люди, которые манкировали своими любовными по отношению к ней обязанностями, а иные стали и открыто нос воротить, выказывая что-то похожее на отвращение. Дама нынче бесконечно мечется, припудривается социалистическим реализмом, устраивает клиентам громоподобные истерики, увы, все напрасно, лучшие годы прошли, любви все меньше и меньше…
Развивая эту вполне сомнительную метафору, я вдруг заметил, что в зале воцарилась тишина, не вполне соответствующая шутливому тону спикера, какая-то густая враждебная тишина, похожая на заседание правления Союза писателей СССР. Дальнейшее развитие негативной ситуации — переглядываются. Завершение развития ситуации — начали шикать и букать.
Вдруг вскочило нечто розовощекое, с коротким и густым чубом, взмахнуло рукой.
— Как вы смеете?! — при резком движении в размахе здоровенного пиджака мелькнуло нечто округлое, как будто девушка. — Как вы смеете сравнивать советскую цензуру с женщиной?!
— Простите, — запнулся я, — мне кажется, вы меня не поняли. Мой говенный английский, возможно…
— Стоп-стоп-стоп, — по-комиссарски, как из советской «Оптимистической трагедии», моя обвинительница выставила руку ладонью вперед. — Мы вас отлично поняли, сэр!
К первой комиссарше присоединилась вторая, кожанка сближала ее еще больше с Ларисой Рейснер.
— Вы сравнили свою паршивую цензуру с женщиной, страдающей гормональным дисбалансом! Вы оскорбили всех присутствующих ребят женского пола! Позор!
В зале воцарился неакадемический шум.
— Позор! Позор мужскому шовинизму!
— Господа, господа, товарищи женщины, — пытался отмахиваться я, — меньше всего я хотел оскорбить женщин, это просто ведь метафора, ничего больше, шутливая метафора.
Незадолго до этого я прочел роман Джорджа Ирвинга «Мир по Гарпу» и сейчас не без пупырышек на коже вспомнил одну из сцен этого сочинения. Шум в зале не затихал.
— Позор таким гадким метафорам!
— Руки прочь от женского движения!
Кто-то из немногих сочувствующих (кажется, одного со мной пола) крикнул:
— Оставьте русского, это у него следы векового рабства!
— Вот именно, следы, — попытался оправдываться я. — Следы векового, господа! Именно в результате векового рабства произошло разделение русских существительных по каким-то странным, пожалуй, метафизическим признакам. Может быть, в связи с этой же причиной у нас нередко именуют советскую власть Степанидой Власьевной, а Государственную Безопасность — Галиной Борисовной, то есть присваивают им имена каких-нибудь московских старух, на которых, по наблюдению одного проницательного иностранца, и покоится весь советский режим, вернее, его нравственная база. В некотором смысле, господа феминисты и все сочувствующие (а к таковым позвольте отнести и вашего покорного слугу), эти явления свидетельствуют, возможно, не об унижении женщин, а как раз наоборот, о преобладании наследия матриархата над показушным патриархатом Политбюро — не кажется ли вам? Прошу понять меня правильно, господа комиссары американского женского движения, неосторожно употребленная мной в отношении советской цензуры метафора и в самом деле явилась результатом векового