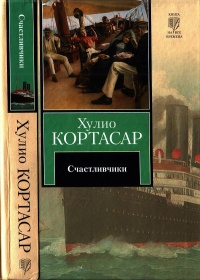Книга Игра в классики - Хулио Кортасар
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Хоть бы один прямой, — подумал Оливейра, глядя на рассыпанные по полу гвозди. — А скобяная лавка закрыта, мне дадут пинка под зад, если я постучу и попрошу продать мне гвоздей на тридцать сребреников. Придется выпрямлять, другого выхода нет».
Каждый раз, когда ему удавалось хоть немного выпрямить гвоздь, он поднимал голову и свистел Траве-леру, чтобы тот выглянул в окно. Из своей комнаты ему было хорошо видна часть их спальни, и что-то подсказывало ему — Травелер там вдвоем с Талитой. Травелеры подолгу спали днем не столько потому, что сильно уставали в цирке, сколько потому, что принципиально ленились, и Оливейра это уважал. Рискованно было будить Травелера в половине третьего дня, но Оливейра, выпрямляя гвозди, отбил себе все пальцы, кровоподтеки разрослись, и пальцы стали похожи на недоделанное тушеное мясо, так что смотреть противно. И чем больше он на них смотрел, тем больше понимал, что обязательно должен разбудить Травелера. Ко всему прочему ему хотелось мате, а заварка кончилась, вернее, на ползаварки еще оставалось, и было бы так кстати, если бы Травелер или Талита бросили ему в окно недостающую часть, завернутую в бумажку, а заодно и несколько гвоздей для балласта, чтобы он мог починить оконную раму. С нормальными гвоздями и мате сиесту можно будет пережить.
«Невозможно свистеть громче, дальше некуда», — подумал Оливейра, ослепленный солнцем. На первом этаже, где помещался подпольный бордель с тремя женщинами и служанкой, кто-то, вторя ему, издал жалкий свист, не то чайник закипел, не то беззубый прошепелявил. Оливейре нравилось, что его свист может вызвать восхищение и желание подражать; он не растрачивал свой свист попусту, приберегая его для важных случаев. Предаваясь чтению литературы, обычно это происходило с часу ночи до пяти утра, и не каждую ночь, он пришел к неутешительному выводу, что свисту в литературе уделяется совсем мало внимания. Лишь немногие авторы заставляли своих героев свистеть. Практически никто. Они предлагали им довольно унылый репертуар выразительных средств (говорить, отвечать, петь, кричать, бурчать, цедить сквозь зубы, возвещать, шептать, восклицать и декламировать), но никто из героев или героинь не отмечал решительные моменты своего жизненного пути настоящим свистом, от которого вылетают стекла. Английские сквайры свистом подзывали к себе охотничьих собак, а некоторые диккенсовские персонажи свистом останавливали кеб. Но в аргентинской литературе свистели мало, и это был стыд и срам. Поэтому Оливейра, хотя и не читал Камбасереса,[481] считал его мастером за одни только названия, порой представляя себе продолжение, в котором свист проникнет в Аргентину видимыми и невидимыми путями, оплетет ее сверкающими нитями и покажет изумленному человечеству внутренний облик этого мясного рулета, который будет совсем не похож на рекламную версию, принятую в посольствах, или на пищеварительные воскресные передачи Гайнсы Митре Паса,[482] и еще меньше на заскоки «Бока Юниорс»,[483] на некрофильский культ багуалы[484] и на квартал Боэдо.[485] «Мать твою! (Это гвоздю.) Подумать спокойно и то нельзя, черт бы тебя побрал». Впрочем, подобные размышления только раздражали, все это было бы слишком просто, на самом деле он был убежден, что Аргентину можно взять, только пригвоздив ее к позорному столбу, вызвать у нее краску стыда, спрятанную под целым столетием разного рода узурпаций, о которых наперебой пишут ее очеркисты, и показать таким образом, что ее не стоит принимать всерьез, как она того желает. Но кому захочется быть тем шутом, который высмеет на чем свет стоит ее непомерную гордыню? Кто отважится засмеяться ей в лицо, чтобы увидеть, как она покраснеет, а может, и улыбнется признательно и с пониманием? Че, послушай, парень, что за манера с утра портить себе жизнь. Кажется, вот этот гвоздик не такой упрямый, как другие, во всяком случае вид у него более уступчивый.
«Какой собачий холод», — подумал Оливейра, который верил в эффективность самовнушения. Пот заливал ему глаза, и было невозможно удержать гвоздь острием кверху, потому что стоило ударить молотком, пусть даже несильно, как он тут же выскальзывал из влажных (от холода) ладоней и ударял по посиневшим (от холода) пальцам. Хуже всего было то, что солнце заполнило всю комнату (это луна освещала заснеженную степь, и он свистом подзадоривал лошадей, запряженных в его тарантас), в три часа дня уже не найти ни одного уголка, где бы не было снега, и ему суждено медленно закоченеть, погрузившись в сон, так прекрасно описанный русскими писателями, что в нем есть даже нечто притягательное, и его тело останется погребенным под убийственной белизной мертвящих цветов бескрайней равнины. А вот это хорошо: мертвящие цветы бескрайней равнины. В этот момент он изо всех сил ударил молотком по большому пальцу. Он почувствовал такой сильный озноб, что стал кататься по полу, чтобы не замерзнуть окончательно. Когда он наконец сел на полу и стал трясти рукой, то был с ног до головы в поту, хотя, может быть, это был талый снег или легкий иней, который на бескрайней равнине имеет обыкновение чередоваться с мертвящими цветами и увлажняет шкуру волков.
Травелер затягивал завязки пижамных штанов и прекрасно видел в окно, как Оливейра боролся со снегом и степью. Он уже хотел было повернуться и сказать Талите, что Оливейра сидит на полу и трясет рукой, но понял, что дело плохо и что лучше оставаться свидетелем, суровым и невозмутимым.
— Выглянул наконец, мать твою за ногу, — сказал Оливейра. — Полчаса тебя высвистывал. Посмотри, всю руку начисто отбил.
— Это тебе не габардином торговать, — сказал Травелер.
— А гвозди выпрямлять, че. Мне нужно несколько прямых гвоздей и немного мате.
— Запросто, — сказал Травелер. — Подожди.
— Заверни в бумагу и брось в окно.
— Ладно, — сказал Травелер. — Но сейчас, я так думаю, до кухни не добраться.
— Почему? — спросил Оливейра. — Она не так уж далеко.
— Не в этом дело, по дороге на веревках белье сушится, ну и всякое такое.
— Пролезь под ним, — подсказал Оливейра. — Или перережь веревки. Мокрая рубашка, которая шмякается на пол, — это незабываемо. Если хочешь, я тебе кину перочинный ножик. Спорим, попаду прямо в окно. Я мальчишкой попадал во что хочешь с десяти метров.
— Что в тебе плохо, — сказал Травелер, — о чем ни заговори, ты все переводишь на детство. Я устал тебе повторять, побольше читай Юнга, че. Дался тебе этот ножик, тебе любой скажет, что ножик — это холодное оружие. А ты слова не можешь сказать, чтобы не посверкать ножичком. Ну скажи мне, какое он имеет отношение к мате и гвоздям?