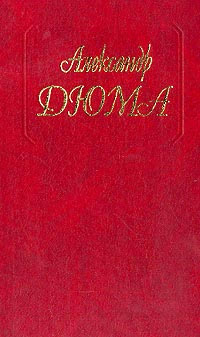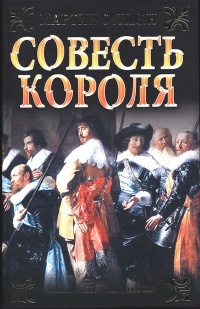Книга Прекрасная Габриэль - Огюст Маке
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Это правда! — вскричал Понти. — Король…
— Ну, если ты убежден, заметь, что всегда выиграешь что-нибудь, не притесняя женщин. Пожелай мне спокойной ночи, и поскорее заснем, чтобы завтра, как только ты будешь на ногах, ты мог исполнить это поручение.
— Как только рассветет, — сказал Понти.
— Как только проснется эта девица, — отвечал Эсперанс, засыпая тихим сном.
Благодетельная природа продолжала этот сон до девяти часов утра; раненый раскрыл блестящие глаза, и все вокруг него пело — птицы, зефиры, каскады, когда он приметил Понти возле окна, на которое померанцы стряхивали пахучий снег со своих слишком зрелых лепестков.
У Эсперанса цвет лица был такой свежий, румянец так оживлял его поэтическую физиономию, что Понти закричал, увидев его:
— Который из нас был ранен?
— Мне хочется есть, — сказал Эсперанс, — мне хочется пить. Мне хочется гулять. Я охотно стал бы петь с зябликами и жаворонками. Душа моя легка и плавает в этом чудном голубом небе!
Понти отворил дверь, в которую два женевьевца принесли стол с завтраком, который позволяли больному.
Эсперанс с жадностью ел, сожалея, что не может более наполнить свой раздраженный желудок, когда вошел говорящий брат, молча посмотрел на раненого и вынул из рукава бутылку, довольно длинную и довольно круглую для того, чтобы прельстить взор выздоравливающего; он сделал знак одному из женевьевцев подать ему рюмку.
Рюмка была из тонкого и граненого хрусталя. Тонкая, расширявшаяся кверху, как колокольчик, она имела одну ножку, которая вилась тонкой спиралью. Уже солнце поглощало ее грань, зажигая призматический огонь, когда говорящий брат налил в хрусталь желтое, бархатистое вино, превратившее опал в рубин, и подал рюмку Эсперансу. Глаза Понти засверкали, как карбункулы, но говорящий брат старательно закупорил бутылку, спрятал ее в свой рукав и вышел, полюбовавшись действием своего старого бургундского на щеки выздоравливающего.
— Я заключил бы условие с говорящим братом, — сказал Понти, — рюмку моей крови за рюмку этого чудесного нектара.
— Это вино старше вашей крови, брат мой, — отвечал, улыбаясь, один из женевьевцев.
— А если оно так редко, как слова говорящего брата, — прибавил Понти, — мне нет надежды попробовать его когда-нибудь. Какую странную мысль имели в монастыре назвать говорящим человека, который никогда не раскрывает рта!
Женевьевцы убрали завтрак, и наши друзья остались одни.
— Ну, — вскричал тотчас Эсперанс, — что сказала тебе невеста?
— Она ничего мне не сказала. Я пришел именно в ту минуту, когда она ссорилась со своим отцом. Должно быть, это у них привычка. Так что я видел только камеристку.
— Хорошенькую?
— Да, она очень хорошенькая, негодная, — отвечал Понти. — Надо заметить, что слишком много женщин, которые хороши. Это приманка, которую представляет нам дьявол.
— Непременно. И эта камеристка?..
— Меня спрятала при первых словах, которые я сказал. Эти камеристки так привыкли к интригам! Она меня сейчас спрятала под лестницу, чтобы разговаривать свободнее, и когда я сказал, от кого я пришел… Представьте себе, они нас знают!
— Нас?
— Разве женщины не знают всего?
— «Ах! — вскричала эта хорошенькая злодейка. — Вы пришли от раненого? Очень хорошо!.. И вы говорите, что дело важное?» — «Очень важное. Бродит человек, наблюдает за вами, расставляет засады». Словом, я так ее напугал, что она отвечала: «Теперь и целый день невозможно разговаривать с барышней, ее стережет отец, но в половине десятого…» Это, должно быть, их час.
— Ты можешь опять идти туда?
— Ни к чему, сами придут.
— Как придут? Камеристка?
— Только бы недоставало, чтобы сама барышня пришла. Впрочем, я за это не поручусь.
— Ты сошел с ума!
— В половине десятого подойдут к окну, будет темно, выслушают, что ты имеешь сказать, — и вот мое поручение исполнено.
Эсперанс потупил голову.
— Ты находишь это очень любезным, не правда ли? — иронически сказал Понти. — Эти девицы сами беспокоятся, чтобы не беспокоить нас.
— Я нахожу это очень любезным и очень осторожным, — сказал Эсперанс сухим тоном. — Эта девица знает, что я ранен и не могу тронуться с места; она не хочет, чтобы скромное письмо компрометировало ее. Я, право, не знаю, — вдруг сказал он, — зачем я защищаю эту девицу? Ей этого не нужно. Кто назначил тебе свидание? Она? Если ты находишь этот поступок необдуманным, кто в этом виноват? Не камеристка ли говорила с тобой? Это выдумка камеристки… Ведь это камеристка придет? Какая строгая натура, боже мой!
— Вот теперь виноват я, — прошептал Понти.
Они провели день, пробуя силы Эсперанса то в комнате, то в доме, то под цветущими померанцами. Опыт был удачен; садясь каждую минуту, вдыхая воздух глубоко, посвящая несколько минут сну, когда силы истощались скоро, они дошли таким образом до вечера. Головная боль, неразлучная с первыми силами выздоравливающего, почти исчезла. Эсперанс почувствовал себя довольно свежим и крепким, чтобы растянуться на двух креслах перед окном, вместо того чтобы лечь в постель.
Когда темнота сделалась довольно глубока и в саду, и в доме, оба друга спокойно ждали возле лампы, около которой вертелись ночные бабочки.
Им послышались шаги в соседней аллее, быстро приближавшиеся, и Понти шепнул Эсперансу:
— Вот она.
Грациенна действительно приближалась, скользя за кустами. Добежав до окна, она сказала голосом почти сердитым:
— Если у вас огонь, барышня не может подойти.
— Барышня? — вскричал Понти. — Разве она здесь?
— Вот между этими двумя кадками.
Эсперанс приметил тень. Он загасил лампу. Грациенна воротилась к своей госпоже.
— Ну, ведь я говорил, — прибавил Понти, — женщины — настоящие змеи.
— А вы, Понти, дурак, — возразил Эсперанс, пригорюнившись на подушках.
Обе женщины подошли к окну. Та, которая стояла ближе, была Грациенна, другая опиралась на ее плечо.
— Подай же стул, — сказал Эсперанс Понти.
Понти взял стул и спустил его в окно перед дрожащей гостьей.
— Стереги, Грациенна, — сказала она.
Грациенна осторожно пошла по саду.
— Стереги, Понти, — сказал Эсперанс гвардейцу, который вылез из окна, присоединился к камеристке, и их можно было видеть обоих, подобно двум статуям, обрисовывающимся черными силуэтами на сером грунте горизонта.
Эсперанс, видя, что Габриэль еще не смела подойти, сказал:
— Не угодно ли вам сесть; вас будет видно меньше, чем когда вы будете стоять. Прошу меня извинить, если я не иду к вам, но вечерний холод не хорош для ран, и я с сожалением должен остаться в комнате.