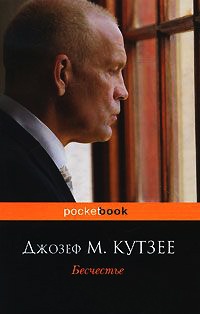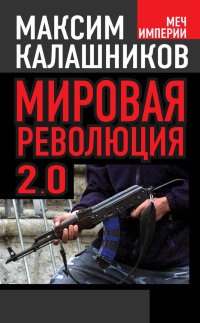Книга Соучастник - Дердь Конрад
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Впрочем, если в тот самый день под стеной желтого классицистического здания, в одном из двориков тюрьмы, ему довелось бы командовать моей казнью, — он все равно бы напился. Позже он признался: ему было любопытно — чисто как коллекционеру, — что я выкрикну в последний момент перед смертью. Будучи осужденным пожизненно, я провел в той небольшой тюрьме несколько месяцев; на рассвете — топот сапог, потом тонкий, срывающийся голос: «Братцы, не забывайте меня!» Крики «да здравствует» звучали редко; в нашей истории всякое понятие с большой буквы — только подрыв доверия. Мы были лучше своих палачей, но последнего лозунга у нас не было.
Финальная сцена, как правило, получалась эффектной. Тюремное начальство знает, что осужденный все равно будет что-нибудь кричать, и терпимо относится к этому: пускай душа, прежде чем отлететь, взбрыкнет напоследок. Тот, кто еще способен кричать в голос, к месту казни идет на своих ногах, не визжит, как свинья, его не нужно волочить по булыжнику, как мешок. Это и на остальных действует отрезвляюще; лучше, если осужденный получит возможность проститься, чем если вся тюрьма будет сходить с ума. Со двора в открывающиеся к небу окна долетают слова команд и голос осужденного; вся тюрьма слушает, замерев, дыша словно единой грудью. Для того, кого рано утром выводят на прохладный двор, близкие — это уже только мы. Мы садимся на нары: мы, получившие большие сроки, и среди нас — те, кто ждет своего утра; призрачными своими телами мы окружаем нашего товарища до последней минуты.
Странно все-таки: семейные люди, получающие зарплату, в рабочее время убивают других людей, которые им ничего дурного не сделали. Главный палач, полковник, натягивает белые перчатки и полотняным колпаком закрывает лицо нашего товарища. Его подручный, который еще в камере снял мерку с шеи приговоренного, одну веревку накидывает ему на шею, другой связывает ноги — и выбивает из-под него скамейку; второй подручный дергает веревку, перекинутую через блок. Шейная артерия сдавлена, мозг не получает крови, сердце перестает биться. Вырывается ли через расслабленные кольцевые мышцы содержимое внутренностей — это уже другая история, не наша. Главный палач дает знак врачу, в стетоскопе — полная тишина; главный палач стягивает колпак, опускает еще теплые веки — и жестом хирурга, закончившего операцию, стягивает белые перчатки. Потом отдает честь прокурору: двое слепо уставившихся друг на друга государственных слуг, два уголовно-процессуальных призрака; через четверть часа они чокаются рюмками с коньяком.
Лобное место внедрилось в голову Тиболы, в пространство между висками, и после стольких повешений оживлялось от палинки. В воображении Тибола вешал всех, кто его хоть как-то обидел. В красочных видениях жена его тоже стояла на скамеечке под петлей; жена, которая дома, в постели, не стеснялась показывать ему свое отвращение. Тибола хватал пистолет, заставлял ее встать перед ним на колени, просить прощения; но и после этого она не любила его сильнее. Он ревновал жену ко всем, от почтальона до трубочиста; лицо мужчины на улице, кивнувшего ей, становилось эмблемой его позора. Он хотел слышать подробности, и жена под дулом пистолета сочиняла любовные истории одну за другой, но сценарии, рожденные воображением, повторить с мужем не хотела ни за что. И тогда шесть пистолетных пуль вонзились в пуховое одеяло вокруг ее тела.
Шутка, шутка это была, оправдывался Тибола. Его не посадили, но из прокуратуры выгнали. Теперь он пьянел уже от одной рюмки. На новой службе он с утра потел, его мучили кошмары, и он, не выдержав, сбегал в корчму. В середине дня, кто бы и что бы ни говорил ему, он только отмахивался. Потом Тибола стал ночным сторожем на лесопилке, за бутылку вина закрывая глаза на все, что везли со склада машины; лишь умеренный аппетит воров помешал им растащить всю лесопилку.
Расстановка сил изменилась и дома: врезав своей крупнотелой жене под глаз, он получал ответ в тройном размере. Ослабев, брел на кухню, шарил по ящикам, бестолково ища нож; в конце концов, стоило только жене поднять руку, он принимался плакать. Жена завела роман с молодым грузчиком, перевозившим мебель, и последовательно перепробовала с ним все то, что до сих пор было лишь плодом ее воображения. Сколько она ни запрещала мужу приходить домой до полуночи, Тибола, впадая в неистовство от долгого воздержания, колотил кулаками в дверь и грязно ругался. Чтобы он не тревожил соседей, жена и любовник стали закрывать его в одежный шкаф. Тибола и там вопил, как осатанелый болельщик, который ненавидит обе команды. А однажды вечером, когда все кончилось, он отказался вылезать из шкафа. «Раз ты меня сюда заперла, это и будет теперь мое место». Он ходил под себя, на стоящую в шкафу обувь, надменно взирая на зимние пальто, свои и жены. Вонючего, с острыми коленками Тиболу выволокли из шкафа санитары; в машине, чтобы он не вскакивал, они наступали ему на пальцы ног, благо он был в одних носках.
«Никакой я не душевнобольной, — шепчет он мне на ухо, — просто характер у меня слабый. Может, и вообще его нету; может, и не было никогда. Ведь что такое — характер? Это если ты делаешь то, что сам считаешь правильным. Вот только я правильным всегда считал то, что начальство считало правильным. Чем больше я его боюсь, тем становлюсь послушнее. Я и тебя вон чуть не повесил, а теперь, если прикажешь, я дорожку в саду языком вылижу. И если ты думаешь, что мне стыдно, то глубоко ошибаешься. Никто не знает, что такое истина, а потому всегда прав тот, кто сильнее. Для меня каждый, кто способен меня по шее огреть, — полубог; но у них ведь сразу подозрение появляется: а вдруг я дурака валяю. Если б они хотя бы все одного хотели! Я всегда выполняю последний приказ, а из-за этого кто-нибудь обязательно на меня сердится. Для карьеры тоже ведь нужен какой-никакой характер. Вот хотя бы тут — что? Стоит мне стаканчик вина выпить, сиделки обязательно учуют по запаху. Ну, а я — я не могу устоять и не выдать, кто меня угостил. И на следующий день мне такое приходится вытерпеть! Великомученики рядом со мной — маленькие дети Попросил я как-то у директора отпуск. Знаешь, что он мне ответил? „Тибола, говорит, вы же тряпка. И дня не пройдет, как вас привезут обратно. Радуйтесь, что здесь вас терпят. В первое воскресенье каждого месяца будете получать бутылку вина — только убирайтесь с ним куда-нибудь в парк, подальше, там можете напиваться“».
«Вот я тебя чуть в петлю не отправил, а сейчас готов в пыли валяться перед тобой: топчи меня, вытирай об меня ноги. После этого я тебя не так сильно буду бояться. А если ты на душевные муки меня обречешь, то я что подумаю: черт его разбери, и почему это его не повесили? Если же ты меня мучить не хочешь, то пожалуйста, поцелуй меня, прямо сейчас, в губы. Скажи, ты не боишься, что я как-нибудь подкрадусь сзади и шарахну тебя по голове кирпичом?» «Да ты ведь, если и подкрадешься, примешься кашлять, только чтобы я обернулся». Он хохочет, закрыв ладонями лицо, потом, тряся кулаком, убегает. А через десять минут снова околачивается у меня за спиной. Я не прогоню его, если он сядет рядом, пускай; в том, что он такой ненадежный, есть какая-то своя определенность.
8
Над черной линией — яркое синее пятно. Веки Ангелы — художественный шедевр, но на переносице тушь размазана, потеки тянутся вниз, к губам. Морщины, следы греха, стали каналами — горькими каналами слез. Она снова, уже в который раз, рассказывает толстому Калману и мне, что муж ее целый день играл на трубе, а она плакала: ей очень хотелось, чтобы он с ней поговорил.