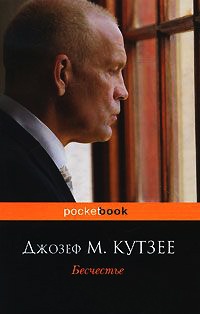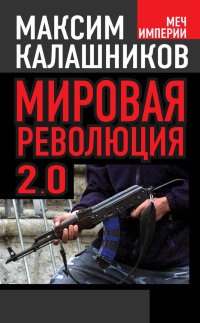Книга Соучастник - Дердь Конрад
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сознание обращается к самому себе и высвобождает себя, словно дернув кольцо парашюта. Я нахожусь здесь, в этом мире; может быть, на выходе; прощание — это знакомство. Все, что я делаю, есть удвоение мира; от зари до зари я только и делаю, что формулирую бытие. Слова — темны, я обхожу текст, словно ветхий забор; там, за ним — понимание.
Я могу утаивать истину от своих глаз, только сам спрятаться от нее не могу. Я согласен, Господи, ты — сам свет; но боюсь, что ты не способен отделить себя от света. Темнота — всего лишь различие в интенсивности освещения; тут, в темноте, у меня вполне сносное обиталище, тут я могу копошиться, пока достанет сил. Мох зеленеет на ржавой кровле, шуршит в пасмурную погоду дождь, птицы сидят под стрехой; тут господствует чистота, и меня не тянет отсюда.
Если я работал хорошо, я просто затеряюсь в мире; но если случится дефект, значит, скоро придет мастер по ремонту. Хватит всего лишь трещинки шириной с волосок — Бог явится тут же. Там, где мир трещит по всем швам, он возникает из круговорота явлений, как учитель с морщинистым лицом, который в местном хоре поет партию тенора. Или как узкогубая гувернантка, которая знает правила хорошего тона, но это не значит, что я от нее в восторге. Боюсь, его удел — «надо», а это куда скучнее, чем — «есть»: дух или валяет дурака, или воспитывает. Мы, люди, компания несерьезная, больше всего нас беспокоит, достаточно ли смешным будет следующий акт. Если в аду веселее, нам хочется в ад.
В плоти тьмы я в общем неплохо освоился; но все равно, будьте добры, выньте меня отсюда, я не хочу быть светом, не хочу, чтобы меня искупили; у меня только серый кафтан, маэстро. Сознание — закоренелый доносчик: оно доносит на вещи; если не прямо, то тем, что дает им имена; слово — кляуза на предмет. Картошка в земле ни на кого не доносит; полежит там, порастет, потом ее слопают. Тот, кто находится на берегу тьмы, заведомо готов сдаться: кушайте, кушайте, меня еще много. Я нужен в твоей игре, маэстро, ведь без меня и тебя не было бы. Ты опускаешься на меня, будто птица на ветку; но с какой стати дереву захотелось бы превратиться в птицу? За обильным нашим столом ты — довольно скучный гость, ты отказываешься даже отведать наготовленных блюд, предпочитая говорить о других что-нибудь плохое. Кладбище — не ахти какое чудесное место, но ты, маэстро, даже скуднее, чем кладбище.
Мне бы ужасно хотелось, Господи, чтобы я не в состоянии был загнать тебя в угол, чтобы ты был хоть чуточку содержательнее, чем незатейливый разговор, что ведут меж собой, встретившись в булочной, домохозяйки, которым хлеб важней, чем весы. Соприкасаться можно лишь с весьма ограниченной частью явлений. Бог — это бог, об однозначном я не могу говорить многозначно. Может, ему и самому скучно в собственном свете, скучно, даже находясь среди нас; может, ему бы хотелось, чтобы мы еще сильнее отличались друг от друга. Но для этого каждый из нас должен найти для себя единственную тропу, которая, по всей вероятности, проходит там, где вообще нет дороги.
Бог живет только в мироздании, только погружаясь в этот свой неудачный эксперимент: выше него он и сам не способен прыгнуть, как выше собственного носа. Мироздание, понятное дело, находится снизу. Там же находимся мы, те, кого туда бросили; гумус истории, все, кто не удался, да и не мог удаться. Над нами парит школярский идеал совершенства; для моего сознания мое тело — всего лишь ошибка. Я покоюсь в навозе собственной глупости, набухая и выпуская ростки: меня постоянно хоронят, машут шляпой, прощаясь со мной; не странно ли, что меня можно хоронить снова и снова? Язык в нашем мире теряет живость, он не в силах свершить ничего, кроме как обозначить отношение между словом и вещью. Имя твое, Господи, есть обобщение языка. Все, что я говорю сверх того, — несогласие. Прости, я знаю, нельзя всю жизнь бороться с тем, кого нет.
7
Тибола, бывший прокурор, после революции много трудился над тем, чтобы и мне помочь перебраться на тот свет; но здесь, в клинике, мы свыклись друг с другом. Я смеюсь, когда он, кривляясь и ерничая, выпытывает у меня подробности моей противоправной деятельности и требует для меня смертной казни. Во время революции он прятался в пустой винной бочке, хотя никто его не искал; в результате он подхватил ревматизм и стал злобным и мстительным. «У меня на счету семнадцать повешений, — говорит он, словно речь идет о пустых пивных бутылках. — Восемнадцатое, — он показывает подбородком в мою сторону, — из-за политики сорвалось. Будь моя воля, ваше благородие не загорало бы сейчас туг». Бывают дни, когда я не в силах разговаривать с ним; тогда он всячески подлизывается ко мне, стоит мне сунуть в рот сигарету, первым бросается дать огоньку. Палинка пробуждает у него чувство юмора; иногда я угощаю его из своей плоской фляжки; сначала отпиваю я, остальное — его. В клинике он — единственный, после кого я не могу заставить себя приложиться к горлышку.
В зале судебных заседаний Тибола не смотрел на меня, свинчивая и навинчивая колпачок самописки; он даже не повысил голос, когда требовал для меня высшей меры. Несколько месяцев меня окружала лишь темнота камеры, и сейчас, в зале, в пучке света, косо падающем из окна, даже заплесневелое лицо Тиболы стало для меня увлекательным зрелищем. Из всех ипостасей моей личности его интересовала только одна — моя смерть; да и она — лишь в том плане, что позволяла поставить точку в конце длинного судебного дела. Мне свело желудок; я поднял взгляд на часы. Суд удалился на совещание; жена моя вместе с публикой вышла в коридор, но стража разрешила ей перед уходом дать мне чаю из термоса. Продолговатый мозг мой коварно ныл; каждый щелчок, отмеряющий очередную секунду, был единственным и неповторимым. Если в одиннадцать мне вынесут смертный приговор и сообщат, что в помиловании отказано, то в час дня, самое позднее, я буду повешен.
Шарканье каждой пары ног по плиткам коридора я слышу отдельно; вместе с другими обвиняемыми, пять серых кеглей, мы ждем, когда до нас докатится деревянный шар. Мой друг — тоже претендент на петлю; на бетонном дворе, пахнущем кухонными помоями, мы с ним станем похожи до мозга костей. Мысленным взором я вижу за дверью свою жену: ногти вонзились в ладони, взгляд устремлен куда-то сквозь стену; сейчас она — словно собственная гипсовая копия. Публика косится на нее сбоку; так смотрят на вдову, идущую позади катафалка с венками. Звонок; мы каменеем, возвращаясь в установленный ритуал. Именем Народной Республики: двенадцать лет, десять лет; затем мое имя: пожизненно. Что за счастье; мы с другом переглядываемся: пронесло. В наших краях ледниковый период продолжается пять-шесть лет, с новой оттепелью придет амнистия, так что лет через семь мы будем сидеть в кафе, за мраморным столиком, есть на завтрак яичницу с ветчиной.
Тибола кивает: он принял приговор к сведению. Вешали в основном рабочих: из них выходило больше всего вооруженных повстанцев; интеллигенты чаще посылают стрелять других, чем стреляют сами, а петля за слова — слишком суровое наказание. Однако Тибола знал, что за неделю до этого — надо было как-то выравнивать диспропорцию в классовом составе казненных — повесили одного моего друга. Из тех же социологических соображений меня хотели послать следом за ним; но был один звонок. Судья мог бы ему тоже об этом сообщить. В тот вечер Тибола выпил в одиночку пол-литра рома; во всяком случае, так он мне рассказал сейчас.