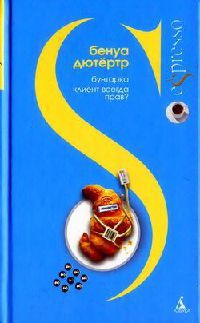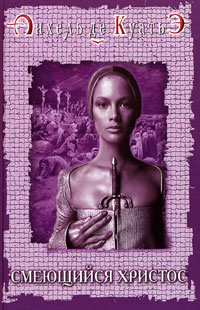Книга Родная речь - Йозеф Винклер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Работница с четками в руках сидит на кровати, повернувшись лицом к божнице с распятием. Она шепчет молитву Спасителю, а длинная нить бусин из слоновой кости свернулась на коленях, точно пуповина. Рожать ей ни разу не приходилось, бездетной она и умрет. У нее есть брат, ставший священником, он — ее бог, ее возлюбленный, свет ее жизни. А крысы — ее тьма и проклятие. Крысы с четками на шеях тащат ее пуповину по полу гумна. Шуршание, шебуршание, стук, визг, половицы подпрыгивают. Гвозди выскакивают из половиц и градом стрел обрушиваются на крыс, и вот одна, другая, третья пришпилена к стене и оскаленными зубами и раскинутыми лапами словно пытается возвестить голохвостым братьям и сестрам о своей кончине. Наша работница, Пина, стоит на коленях в углу под распятием и молит Бога. В такт молитвословию она открывает и закрывает глаза. На ее душе столько ран, что ей позавидует сам распятый Иисус: никому не дозволено превзойти его в страданиях. Пина была первой обнаженной женщиной, которую я увидел. Ее голое тело будет преследовать меня всю жизнь. Мы, я и Михель, таскали тогда дрова в кухню для скота, чтобы нагреть котел с водой. «Мама, давай щепу и спички, снимай печную решетку». Над ней огромной чугунной пригоршней навис котел. Я представляю себе, каково в него окунуться, вариться в нем, подпрыгивая на раскаленном дне, кипяток выжигает волосы у меня на голове, пах облысел, как выбритый. Я поднимаю руки, но это — толстые струи пара, которые, как вскинутые руки, взывают о помощи. Отец, мать и братья пляшут вокруг котла, а крысы и мыши, даже ласточки и ушаны сбегаются и слетаются к открытому окну, заполняют кухню, некоторые садятся мне на плечи и голову. К водопроводному крану прикручен мертвый цыпленок вниз головкой и кверху лапками, а повернешь ему шею, как поворачивают вентиль крана, — из клювика брызнет чистая, как слеза, водица. Мое тело сжимается в бурлящем чане, точно птенец ласточки у меня в кулаке. Я сдавливаю его тельце, пока кровь не окрасит пальцы. «Смотри, мама, я истекаю кровью». И, напугав ее своей окровавленной ладонью и заставив носиться как угорелую в поисках бинта, я попытаюсь сбежать, но моя сестра, Марта, удержит меня, для нее главное — чтобы я оставался на кухне и чтобы мне наложили повязку. Я готов вырваться, нет, исключено, а то вы еще подумаете, что у меня в голове помутилось от потери крови. Это всего лишь ласточкина кровь. «Отпусти меня, иначе я замараю тебя кровью птенца, отступись, иначе я перекрашу твои косы в красный цвет и вплету в них птичьи лапки, а потом свяжу их узлом и погоню тебя через всю деревню. Отпусти меня, не то — скажу маме, что вчера видел на твоей постели алое пятно!» И когда мать, вооружившись бинтами и лейкопластырем, медленно приближается ко мне с гордым видом хирургини, от которой якобы зависит спасение человеческой жизни, у меня в глазах темнеет от ярости и презрения. «Отцепись же! — Но мать уже крепко держит другую руку. — Нет, не хочу я никаких повязок! Оставь меня, дай побыть наедине с моей ласточкой!» Еще вчера я бросал камушки, сегодня мне перевязывают рану, а завтра я снова буду убивать, чтобы вновь вершить исцеление. «Ты и медицинская марля, Я и распятие. В самое Рождество ты родишь Его, мама, а я принесу тебе красный букетик кукушкиных слез, поцелую тебя в лоб и в губы, это — знак благодарности за то, что ты произвела на свет моего младенца Иисуса…»
Сейчас, когда я пишу эти строки, канун Рождества, и какой бы месяц ни значился на календаре, я переношусь в то время года, когда на дворе — мое детство и отрочество, и пишу, двигаясь навстречу прошлому. Я вижу детей, играющих в песочницах, и самого себя, когда подхожу к ним. Кто-то из малышей хочет прогнать меня, кто-то приглашает к игре. Тому, который пытается прогнать, я хочу рассказать о бабусе Айххольцер. Мне бы хотелось, чтобы он знал: тогда мне было три года, как и тебе теперь. Представь себе кого-нибудь, кто берет тебя на руки, чтобы показать тебе твою бабушку в гробу, украшенном вечнозелеными ветками. Представь себе, что вот прямо сейчас мать поднимает тебя повыше и в вечнозеленом гробу ты видишь меня. Ты хочешь разбудить меня и говоришь: «Айда в песочницу, мы будем строить крепости и замки, а когда никто не видит, хватать ртом горстку песка», — мы жуем его и слышим, как он скрипит на зубах, это немного пугает нас, поэтому часть песка мы выплевываем, а часть проглатываем, и длинные тонкие пальцы пищевода будут строить в наших желудках крепости и замки. «Я расскажу тебе страшную сказку, которую сам услышал когда-то. Расскажу легенду о Рюбецале, Духе Исполинских гор. Я презирал его, потому что он был большой. Я никогда не уважал верзил, я любил только маленьких — Мальчика-с-пальчика, гномов и лилипутов; был послушен им, они питались корешками и знали куда больше тех, которые легко перешагивали через дома и угодья селений. Расскажу тебе о Гензеле и Гретель, о том, как они заблудились в лесу. Я открою тебе свое желание, но мне было бы лучше, если бы ведьма съела Гензеля, тогда я мог бы убить ее. Я пробираюсь в родильную палату, где лежит моя мать, и говорю ей, чтобы она развела ноги, ведь живот у нее раздулся, как у волка, который сожрал бабушку. Моя мать и дышит-то в своей постели так же тяжело, как набивший брюхо волк. Крестная сказала мне, что через день-другой на крышу прилетит аист и бросит в дымоход ребеночка. Лицо у него будет вымазано сажей, а кожа горячая, как печной кирпич. Я оботру, отбелю милого негритенка, я стану его рабом, буду мыть ему ручки, ножки и обделанную жопку. И все-таки я не верил крестной. Я уже видел в хлеву стельную корову. Я помогал тянуть окровавленную веревку, и теленок шлепнулся прямо к моим детским ногам, к ногам моего отца, плакавшего от радости, к ногам Пины, которая даже робко попятилась, но и у нее, любившей только распятие и животных, катились по щекам слезы. У нас появился на свет четвероногий младенец. Мой брат Михель — Мельхиор. Я — Каспар. Зиге — Бальтазар. Мы принесем корове ладан, смирну и золото из отцовского кошелька. Теленок повалялся на полу, а когда на его пего-бурой шкурке подсохли слизь и кровь, открыл глаза и посмотрел на меня — первого человека в своей жизни. Мне бы хотелось совладать с описанием этого момента — как, впервые открыв глаза, теленок взглянул на меня, а я увидел новорожденного младенца, который умер и в гробу величиной со спичечный коробок был предан земле, нет, в яму его опускали не с помощью сыромятной веревки, которую прячет в своем мешке могильщик, а на пуповинах, достаточно длинных для того, чтобы захоронить новорожденного ребенка. «Свет неугасимый даждь нам днесь», — написано на спичечном коробке его гроба. «Fiammifero luce santa».[6]Бока у гроба шершавые, чтобы в смертный час можно было об них чиркнуть спичкой и возжечь неугасимый свет. Спичечный коробок сгорает, и в зеве печи набирают колбу пепла. В среду первой недели Великого поста — крест из пепла ребенка нам на чело. Колба пустеет. Священник благословляет именем скотьего бога. Я снимаю с креста свечи и с помощью священника даю верующим фавново благословение. Он произносит какие-то латинские слова, а я одобрительно киваю. Пламя склоняется перед священником и его словоблудием. Благословение живущим и умершим, благословение домашнему скоту и всякой твари. Тело Христово насытит каждого, рассыпаясь на языке, оно переходит в кровь, святая вода утолит жажду всех, всех животных и человеков. Я пил тогда святую воду. Хранилась она по соседству с уксусом и растительным маслом, там же порой можно было обнаружить початую бутылку вина, а рядом — мастику для пола и заскорузлые ветошки. Мастики для пола я не жалел, он у меня лоснился — авось кто-нибудь поскользнется, но так, чтобы я мог вовремя подскочить и не дать человеку упасть, а затем услышать слова благодарности: «Если бы не ты, я бы, чего доброго, сломал себе ногу или руку… или даже шею». Я пил святую воду и уповал на силу Всевышнего, просил его сохранить в добром здравии мое тело и мою душу на всю долгую жизнь, но иногда изъявлял прямо противоположное желание — умереть поскорее, чтобы быть наконец любимым. Надо только самому быть влюбленным в мою соломенную куклу, в распятие, в Деву Марию с младенцем Иисусом у нее на коленях, в моих мертвецов, в облатки, которые я рассекаю зубами. И всякий раз меня удивляет, почему не сочится кровь, ведь сновидения убедили меня в том, что в белой пшеничной оболочке заключена кровь Христа, я чувствую ее вкус на языке и нёбе, просыпаюсь и с криком зову мать. Она тоже пила святую воду, вперив долгий взгляд в какую-то точку у себя перед носом. Она поглощает множество таблеток, каждый день, больше, чем хлеба, и, может быть, тоже просит Господа Бога, чтобы он одарил добрым здравием ее тело и душу. Но, возможно, она думает и о своем разбухшем животе и мечтает хотя бы о здоровом ребенке, даже если ее организм отравлен таблетками и недужен. Не съела ли мать волка из детской сказки, отчего у нее такой большой живот? Священник говорил о каком-то рае, о жизни после телесной смерти, должно быть, там жизнь несказанно хороша, а для меня, наверное, еще лучше, я иду на ту сторону, к тем, кто любит меня живым, не дожидаясь моего смертного часа, мама, я иду на ту сторону, пройди со мной хоть толику пути, на тот берег Дравы, где маячат фигурки рыбаков, а под их зелеными сапогами звенят тонкие, как душевные струны, пластинки льда. А на нем — зеленая лягушка, и зеленый рыбацкий сапог наступает на нее, и два однотонных пласта друг на друге. Лягушка разевает рот и заглатывает земной шар, на котором живем мы, моя мать и я. Рыбак! Сильнее дави, не давай ей проглотить землю, не хочу я жить в лягушачьем брюхе, убей ее, раздави эту тварь, вздумавшую пожрать человека; убей человека, пожравшего божью тварь, нет, не убивай его, у человека умирает душа, если у него в животе проглоченная тварь, и лишь когда ты голоден, тебе дано ужасно мыслить и жить в истинном страхе. Да, они хотят схоронить самое прекрасное дитя деревни. Все готовы на подношение, все они дали бы моей облаченной в синий траур скорбящей матери сахар, не поскупились бы на соль, а главное — на кофе с липовым цветом и больным, надорванным сердцем на упаковке, так как избыток кофеина не идет ему на пользу. Мой брат Михель стоит посреди деревни и просит пожертвовать на похоронное одеяние моего прекрасного брата, милостыню просит! Ведь это одеяние — из чистого шелка да расшитое золотой нитью — стоило дорого, приходилось забивать быка, а его сначала откармливали, а потом долго трудились, чтобы завалить. А он, Михель, видел умирающего быка, видел, как умирали теленок, корова, лошадь, видел смерть ребенка, деда Энца, бабушки Энц, еще живущего отца умершего сына, видел пережившую все это мать, видел быка, у которого под тяжестью собственной туши подламываются в коленях ноги, видел его желтые глаза и кровавую пену на губах, глаза, все больше выпиравшие из глазниц, когда он уже не мог кричать, да, он не ревел, только опускался все ниже и ниже, и больно было смотреть, как умирает животное, и не слышать его последних стонов.