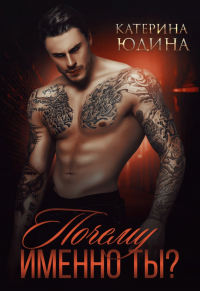Книга Где ты теперь? - Юхан Харстад
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я старался идти за Йорном и Роаром, чуть на расстоянии, чтобы проскользнуть в класс незаметно вслед за ними, оглядеться, посмотреть на новеньких и, самое главное, выяснить, там ли Она. Я осмотрелся. Она была там. Естественно, она сидела далеко сзади, как я и предполагал, мне показалось, что одна, но потом вошла Анетте и села рядом с ней. Они достали книжки, начали болтать, и я подумал, что они с Анетте подружатся. Совсем неплохо. Анетте, похоже, была одной из самых приятных девчонок, хотя мы с ней ни разу и словом не перекинулись. Я подошел к Йорну, который сел там, где я положил его рюкзак, уселся рядом и начал искать учебник по норвежскому. Зачем — не знаю, мне ведь было хорошо известно, где учебник, он лежал в рюкзаке, третий снизу. Так всегда было — чтобы не забыть что-нибудь, я всегда таскал с собой все, так и проходил все эти годы, перекосившись.
Йорн забыл пенал, поэтому попросил у меня карандаш, нет, ручку, у меня и то и другое было. А потом пришел учитель, за время каникул он совсем не изменился, выглядел так же, как и в последний день перед каникулами, — все такой же бледный, только черты лица заострились, та же девятидневная щетина, тот же взгляд. И, если я не ошибаюсь — а это маловероятно, — он и одет был так же. Он поставил сумку на стол, и в классе воцарилась тишина. Все ждали, что он вздохнет и утомленно опустится на стул. Но учитель Холгерсен, Стареющий Холгерсен, улыбнулся. Он улыбнулся нам и сказал: «С возвращением!»
Потом он начал рассказывать о произведениях Дага Сульстада, о школьных преподавателях, которым в военные годы приходилось нелегко, о предательстве, о решающих выборах в ЕЭС и о тех, кто все это выдержал. Я сидел спереди и пытайся, как обычно, конспектировать, но затылок мой будто жгло и щипало, и я никак не мог сосредоточиться, настолько было жарко. Я потер затылок, и, посмотрев на меня, Йорн оглянулся проверить, не бросили ли в меня чем-нибудь, но все было спокойно, а я сидел, уставившись в столешницу и думая о том, что где-то позади меня находится человек, которого я еще толком и не знаю, который почему-то перешел в наш класс и который хочет разрушить мое анонимное существование. Каким же маленьким и тесным стал наш класс, когда она вошла.
В тот день на переменах я бесцельно бродил по школе или сидел во дворе на лавочке с Йорном и Роаром. Йорн рассказывал о своем брате, Роар что-то отвечал, от меня нить беседы ускользала. Я, словно сидя в засаде, поджидал, когда появится она, и она появлялась. Она выходила на каждой перемене, чуть погодя, подходила к группе девчонок из класса «С», которые стояли посреди площадки, рядом с баскетбольной корзиной, она, очевидно, знала кого-то из них, и я решил, что именно поэтому она перешла в нашу школу. Для того, чтобы перейти в Хетланд, должна была быть причина — это все знали. В отличие от школ Конгсгорд, Св. Олава и, может, еще Св. Свитуна, в Хетланд переходили те, кто не хотел за три года заучиться до смерти и кому уроки уже порядком надоели. О Хетланде знали многие. Знали, что в старшую школу Хетланд попадают средние ученики, те, кто идет на контрольную со шпаргалками, кто просыпает экзамен, кто приходит только к третьему уроку, уходит пораньше, работы сдает с опозданием и не знает, на какой факультет будет поступать через пару лет. Вообще-то я собирался в Конгсгорд, а может, в Св. Олава, я-то был способным учеником: делал уроки, готовился к контрольным, писал конспекты, старался без надрыва выучить все, угодить всем, хотел быть добрым и легким в общении. Поэтому я в результате попал в Хетланд: там хотел учиться Йорн, потому что, как он сказал, в Хетланде есть школьный театр, «Мунин». Он считался более прогрессивным, чем столетний «Идун» в Конгсгорде, поэтому Йорна больше тянуло туда. Продвинутый Йорн любил театр, ему нравилось стоять на сцене, произносить монологи, любить или ненавидеть, все равно что. Естественно, в театр его приняли, а немного погодя Роар тоже туда устроился, оформителем. Йорну дали роль, не главную, как он хотел, главной роли он так ни разу и не получил. Это была одна из второстепенных ролей, «Как насчет ревю?», четыре реплики во втором акте, в феврале 1986-го. Билета на премьеру мне не досталось, очередь перед школьным театром выстроилась еще в январе, и билеты все расхватали. Я дождался, когда пьесу стали ставить регулярно, и однажды в середине февраля, в среду вечером, сел в автобус до Хетланда, зажав в руке билет, а руку засунув в карман куртки. Я протопал по снегу до спортивного зала, где проходили представления. В глубине зала висел занавес, а за ним, на возвышении, находилась сцена. Я отыскал свое место — специально просил в середине — и уселся, не снимая куртки, под тепло огромных висевших под потолком прожекторов. Спектакль начался. Ничего особо выдающего в нем не было, Йорн неплохо произнес свои реплики, хотя говорил он слишком тихо и чуть запинался, а одна из декораций, которые устанавливал Роар, была плохо закреплена и шаталась, когда кто-нибудь топал ногой. Но это было «ревю», и я был там, среди радостной и смеющейся публики, которую я не знал и которая не знала меня, но там, в темном зале, я стал ее частью. Мы смеялись, толкали друг дружку в бок на самых сальных шутках и самых издевательских песенках, а когда спектакль закончился, разошлись в разные стороны: я пошел своей дорогой, а остальные — своей. На следующий день я понял, что популярность Йорна немного возросла, но совсем чуть-чуть. Свои четыре реплики он произнес хорошо. На переменах к нам подходили — поболтать с Йорном или, если тот был занят, с Роаром. Я тогда сразу отступал в сторону или назад, пропуская других, подыскивая слова, но так и не находил. Не знаю — мне нравилось просто стоять и слушать, быть наблюдателем, притворяться, будто меня нет, будто я невидимка, и поэтому никто, кроме Йорна и Роара, не обращался ко мне и не смотрел в мою сторону. Мне это нравилось. Я был в своей стихии. Все было под контролем.
Но где-то глубоко-глубоко, в самой глубине души, мне, большому винтику, хотелось привлечь к себе внимание всего света. Пусть хотя бы один раз.
После школы я сел на автобус и поехал в центр, чтобы забрать велосипед, который стоял рядом с Ромсе, а потом покатил на нем к Стурхаугу. По утрам я обычно ехал на велосипеде из Кампена в центр, оставлял его там и садился на автобус до Хетланда, и таким же образом добирался из школы. Кроме среды — по средам у меня были занятия с фру Хауг, которая преподавала вокал на дому. Жила она на Нюманнсвейен и ненавидела, когда опаздывают или приходят слишком рано, но зато ей нравились мальчики, у которых чистый голос, аккуратная одежда и которых она считала современными.
Заняться пением меня побудил не кто иной, как Александер Л. Кьелланд.[8]Не тот, который писатель — к нему у меня никогда не было особого интереса, я не извлек ничего поучительного из «Яда» и никогда не понимал учительских восторгов по поводу «Гармана и Ворше». Нет, не из-за него — а из-за платформы, помните тот случай? Произошло это в 1980 году, 27 марта, в Северном море, в половине седьмого вечера, вспоминаете? Из-за урагана в море одна опора платформы подломилась, остальные пять оторвались вследствие естественного износа или взрыва в несколько шагов, платформа «Александер Л. Кьелланд» пошатнулась и меньше чем через полминуты накренилась в море под углом 40 градусов, а через двенадцать минут схватился за голову весь мир: нефтяная вышка пошла ко дну, налицо величайшая катастрофа в офшорной промышленности. Ставангер замер. У Ставангера дух перехватило, но это не помогло, из 211 лишь 88 человек спаслись и вернулись домой, 123 человека поглотила вода, они оказались заперты в кинозале, в хаосе и кромешной тьме, и не смогли выбраться. Всего какие-то двенадцать минут отделяли обычный день от ужаснейшей катастрофы. Тишина, опустившаяся на город, была всеобъемлющей. Почти у всех на платформе были знакомые или родственники знакомых, но никто не мог подобрать подходящих слов утешения. Прошло время, платформу подняли, но не всех пропавших смогли отыскать, хотя прошло уже три года. Некоторые ушли навсегда. И вот опять лето — лето 1983-го. Йорн подарил мне первый подарок ко дню рождения. Пока я разворачивал сверток, Йорн, ухмыляясь себе под нос, сиял от гордости, и вот уже через пару секунд у меня в руках был диск «Модс» «Америка». Мне было тринадцать, для нас и для всех остальных наших ровесников практически только «Модс» и существовали. Это был их второй альбом, и на нем была песня под названием «Александр», довольно-таки мрачная вещица. Слова в ней были, на мой взгляд, мягко говоря, туповатыми, рассказывалось о брате и сестре, которые убежали из дома, и всякой сентиментальной семейной чепухе. Связи я не видел до тех пор, пока однажды вечером не пошел в гости к Йорну, мы тогда прослушали этот диск три раза подряд, и я начал говорить, что альбом — совершенство, но эта песня — самая слабая.