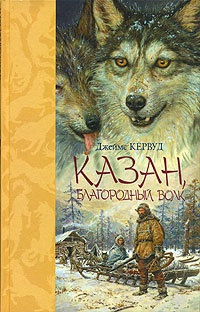Книга Перешагни бездну - Михаил Иванович Шевердин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Жили мюриды-чуянтепинцы по-прежнему. Свозили во двор ишану урожай. Слушались во всем. И помалкивали. Да и как не помалкивать? Сын ишана Ибадулла ведь ходит за границей у эмира в больших людях, говорят, там, в Кала-и-Фатту, ему дали высокий чин кушбеги или датхо. И командует он сотнями воинов.
В молчании смотрели старейшины селения Чуян-тепа на торчащую клинышком бородку своего мюршида Зухура и старательно отводили глаза от изможденного лица и встрепанных волос Моники-ой. Жалко девушку. Хотя сама виновата. Но на то и воля наставника. Пожелал он ее — значит, не смела она ему противиться, посмела — пусть пеняет на себя. Святому все дозволено.
Несчастная Моника-ой думала.
Сквозь сетку своих раскосматившихся волос — сколько времени, годы их не касался гребешок — она тоскливо следила за узорами дивно раскрашенных балок потолка, бродила безучастно взглядом по хитросплетениям чудесного орнамента красного, желтого, изумрудного, бронзового… Она совсем потеряла силы, ослабела, стала равнодушной ко всему. Она сама удивлялась, что всякие красочные завитушки, цветочки, запутанные линии могли занимать ее бедные глаза, отвыкшие от солнца, зелени листвы, голубизны небес. Моника и говорить, наверное, разучилась. И плакать не смела. Она боялась боли. Она долго болела в сырости и тьме хлева, и никто не лечил ее, никто не облегчил ее мук и страданий.
Забившись в самый дальний угол, она прижималась к Ульсун-ой, едва услышав звяканье подков и голоса людей. Лишь по ночам приходил ее отец Аюб Тилла к хлеву и, приложив губы к отверстию, шептал: «Несчастная ты моя, жива ли ты?»
Он обращался только к Монике. Ульсун-ой давно уже не откликалась. Она потеряла дар речи. Шуршало что-то в отверстии. Моника бросалась к нему, плакала… Но ночь молчала.
Оставалось одно утешение. Аюб всегда тайком приносил поесть: белую лепешку, кисточку винограда, кусочек баранины из плова. Но помногу месяцев и отец Аюб не приходил, и тогда Моника-ой забывала счет дням и впадала в оцепенение. Тетушка Зухра наливала в пиалу воду, швыряла сухарь и, не сказав ни слова, уходила. Веселая живая толстуха, она не любила забот и неприятностей. А прокаженные, сидевшие в хлеву взаперти, разве не неприятность и не лишние заботы. Верховный наставник ишан Зухур повелел. Против его воли не пойдешь.
Сквозь сетку волос, падавших на глаза, Моника видела сейчас и тетушку Зухру.
По велению ишана она тоже пришла в михманхану и, сжавшись в комок и прикрывая полой накинутого на голову камзола свое румяное лицо, скромно сидела у самого порога. В сердце Моники не шевельнулось ничего при виде приемной матери.
Вспомнилось почему-то лишь одно: с какой злостью Зухра-апа всегда драла ее волосы большущей гребенкой из зеленоватого тутового дерева. И еще вспомнила звучавшие над ухом слова: «Рыжие, красные! Выдрать бы их совсем!» Тетушка Зухра ненавидела золотистые волосы Моники, считала их противоестественными. Молчание в михманхане тянулось так долго, что солнечные радужные блики успели перебраться через постель ишана, перекинуться на лохмотья Моники-ой, коснуться тепло и нежно ее подбородка и осветить копну волос.
Приподняв голову, старец испуганно, изумленно таращил на Монику-ой глаза. У него отвисла челюсть. Маленькая радуга — отблеск от оконного стекла — окружала голову девушки сказочным венцом. Куда делись грязь и короста? Космы раздвинулись и на ишана смотрели вспыхнувшие звездами голубые глаза…
Откуда у ишана и силы взялись. Он громко сказал:
— Принцесса! Истинно принцесса!
Он замети сидящую у дверей Зухру и противным старческим голосом заверещал:
— Дрянь!.. И ты посмела! До чего ее высочество, царскую дочь, довела! Сгори твой отец в могиле! Умыть! Приодеть! А не то!.. Помереть твоей душе живой!
Все онемели. Ишан не говорил членораздельно уже больше месяца. Старейшины согласно закивали бородами и зашептали:
— Иншалла! Чудо! Ангелы написали на голове ее, что счастье еще придет к ней!
Ничего не понимающая, позеленевшая от ужаса тетушка Зухра ползком подобралась по паласу к Монике, бормоча: «Я не знала, я не знала!» — и потащила ее из михманханы. Мгновение радуга не отставала от головы девушки. Казалось, что цветастые лучи солнца не могут отцепиться от раскосматившихся волос. Ишан сел на постели и, судорожно хватая ртом воздух, глядел вслед.
МУФТИ
С мимбара говорит о рае, райских кушаньях, гуриях, вопит, лжет, преследуя свои цели.
Он давился своей собственной отравленной слюной.
В полумраке серел приземистый купол, походивший на спину раздутой, прижавшейся к земле жабы. Красным глазком чуть теплился огонек.
Чалма богомольца цеплялась за шершавые кирпичи низкого потолка. Скинув кавуши, он осторожно нащупывал подошвами босых ног выбоины в полу и острые ребра кирпичей, холодных, осклизлых, пока не ступал на жесткий войлок.
Чья-то невидимая рука дергала полу халата, принуждая протискиваться между молящимися. Лица их с трудом угадывались в темноте заброшенного склепа, почему-то провозглашенного повелением эмира святыней — мазаром Хызра Пайгамбара.
Вольно святому избирать местом упокоения еще худшую нору, но почему сподвижникам его высочества Сеида Мир Алимхана, эмира бухарского, приходится вдобавок к мукам и бедам изгнания еще терпеть грязь и сырость этой норы с отвратительными не то пауками, не то скорпионами, ежесекундно ожидая острого ожога укуса. А снаружи, совсем близко, за журчащим арыком и грядками ароматических трав, приветливо светились двери и окна дворца Кала-и-Фатту, с его утопающими в коврах михманханами, вмещающими каждая в десять раз больше придворных и гостей, нежели эта, быть может, священная, но заплесневевшая могила.
Господин эмир, на то и эмир, пусть свергнутый со своего трона, чтобы не забиваться в крысиную нору. Однако лучше помалкивать. Когда лисица лает на свое жилище, она покрывается коростой. Да и очень тонок слух у муллы Ибадуллы. Раз он хочет и считает удобным устраивать вечерние моления в сырой, промозглой дыре — с ним не поспоришь.
Мулла Ибадулла Муфти — духовный наставник, мюршид. Его Сеид Алимхан почитает своим учителем и слушается беспрекословно: