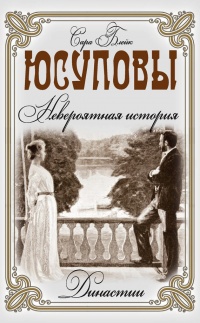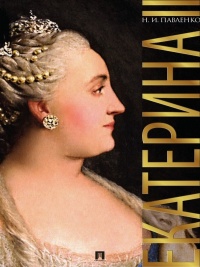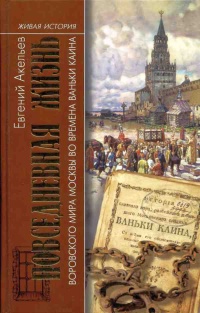Книга Окаянный престол - Михаил Крупин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Чувство внешнего, чуждого сочувственного взора... Скрываясь от него, стесняясь, подолгу не сидел на одном месте Кремля.
Так сласть жутковатая пела под сердцем, когда воображал свой взлёт в цари. И теперь сласть: пересесть бы с царства на корабль? А там только на берег французский сойти — поминай как звали!
И неужели там, на травке безансонского предместья, все нынешние ковры и зубцы, висящие витые лесенки обовьют, ужалят как родные? И тосковать, и совеститься будешь за побег. И даже мрачноватое властительское здание на расстоянии даст только тот же грустный свет.
Раньше у мало-мальских дорожек была суть путей, ведших в те или иные стороны. Груды облаков и воды рек напоминали о родных местах и зовущих породниться просторах...
Теперь дороги и реки, дальние, близкие ёлки... вдруг стали линиями приятно-невнятными, хоть и опрятными примерно. Бессмысленно — плоско и пышно — все линии заплелись развесёлым узором вокруг государя естественного. И государь тут испугался — совсем запустить и потерять весь, сплюснутый уже в близких выгибах и завитках, мир, самому застрять навечно в этих радужных воротах.
Мнишек, узнав о решении Дмитрия сдержать слово, лишился мысленного языка. Он как раз сидел один в сплошном великолепии пустого бретонского зала и отражался во всех зеркалах. Постепенно мысль, улавливая пана, его вновь повела, зарябила сквозь солнце и водила дотемна, пока не отлетела обессиленно... Мнишек хотел приказать ещё вина, не было сил щёлкнуть пальцами, позвать слуг... Он плыл в креслах, и мечты, по краям отчётливо темнея, клубясь от своих чрев-воспоминаний, уже вольно и бессвязно расплывались перед ним. Нежные воспоминания о прежних барышах и удавшихся интригах наполняли теперь утомлённого силой, исподволь убеждая его, что и теперь повезёт. Все предыдущие награды судьбы были лишь лёгкими флажками на необходимом разбеге для захвата призовой хоругви... Дурные же воспоминания (об убытках, проигрышах, посрамлениях, тысячеусых усмешках) уже ни волоском не кололи, великан-выигрыш с запасом искупал и поглощал в себе всё. Удал воевода посмеивался в кресле — ещё удивлённо, но уже пристойно, ясно-снисходительно, — над вмиг отцветшим нолём своих верных кредиторов и обидчиков. Ежи Мнишек один нащупал витоумными корнями сокровенную живую воду: вот и недосягаем теперь — отомщён!
Дмитрий снова проснулся на родине.
Петух кричал, давая знать сразу о времени и о пространстве. Вещал мирно и дерзостно, что ничего не изменилось с чьих-то детских лет: всё хорошо, как и было всегда прежде, всё любопытно, понятно, лениво и хлопотно, грустно и весело... Одинокий голос петуха созидал и обнимал все дома, дерева в облаках, окатывал нехотя эхом колкие пригорки — родина видна была и с закрытыми глазами, — и нельзя было понять только одно: в какой именно её точке сам певец.
Подумывал уже Игнатия с владык сместить — ему ещё указ не дочитаешь, он уже благословляет. Хотя Отрепьев знал, что так же делывал Иов и вся предшествующая церковность. Царство и Церковь были заодно — Церковь публично освящала всех царей, цари же даровали монастырям земли, льготы, злато, серебро, возвышения — первосвятителям. Церковь же дарами сими, прикапливаемыми в веках, в случае лихой годины пособляла царству, выручала тела и строения русских людей. Работала ещё одной, не лишней, подклетью царства. (Как будто нельзя было вырыть в миру, в его тёмной земле, погреб и откладывать в безбожный рублики про чёрный день? Чтобы Церковь — для другого. И не всякий угождающий ей цесарь угодил, не всякий был причём. От Бога — христианский царь, но главное слово — христианский, а стало по оплошке — царь).
Пусть всё у нас и велико, и сильно, и опасно для соседей, а человек и подохнет в том всем. Постой, говорили царю, но чем сильнее, славнее государство, тем и христианин в нём краснее живёт. Язычница лунная — их мысль. Так и меньшой Мнишек сложил:
...весенние седые дали,
не свет, не цвет.
Цель-то — в свете, цвет — только вздохи света на нашем пути.
Игнатий слушал, слушал, смотрел на говорившего, хитря и тупея: неуж и вправду царь считает, что всё вкусногрешное на земле — ерунда, не Божий дар? Ну, оттого он и царь.
А Отрепьев перестал вдруг понимать, где кончается его, отрепье-дмитриевский, разум и начинается ум вот, скажем, Игнатия или Бучинского?
— Слушай, ты сейчас вот ничего не чувствуешь? — с первой надеждой спрашивал. — Где Ты? И где Я?.. Как это сейчас так — ты есть ты, я есть я? Говорю тебе — что-то не ладно здесь, неправильно...
Нет, Игнатий пожимал плечами, ничего не чувствовал — всё тут известно точно и довольно просто: он — это он, царь — это Дмитрий, то же и далее: трон — это трон, кот — это кот, Земля — это шар.
Вообще патриарх всё меньше, неохотнее участвовал в логических спорах, отовсюду теперь устранялся, хотя и не без той же лёгкости, рассеянного блеска, с которыми прежде сюда же вникал.
— Даром что грек, — хотели думцы и кремлёвские церковники привлечь его к прению последний раз, — а всё ж нашу сторону принял!..
— Я не грек, я киприот.
— Прости, прости. Вот мы им, ксёндзам, и говорим: мол, греки провинились, согрешили — уньей с врагом искусили терпение Божие — и, стало быть, расплатились.
— Есть иное мнение.
— Да как же?! Да... — вопрошали, кто уже сурово, кто всё ласковее. — Учи нас: отчего же Византия пала, а не мы или не Рим?! Владыко, низойди, открой!.. Ну-тко, серденько Игнатко, прореки-ко!..
— Да Византия ближе к туркам, вот и всё.
В боях с иезуитами, по-прежнему уныло осаждающими православие, Игнатий и Синоду, и царю был боле не помощник. На Параскеву Пятницу в русскую веру крестилось несколько ногайских князьков и пара жолнеров — племенем из Восточной Литвы, из беднейших, и Дмитрий сам наблюдал обряд. Сначала он глядел в какую-то седую пустоту, только кое-где покалываемую готическими шрифтами писем папы... Как от холода — горячий хохоток! Он и забыл этот род развлечения русских священников — лить при крещении за шивороты неофитам воду! Нет, что там ни пиши, а смешливые наши попы ближе к Господу, ближе унылых и тихих! В латинских патерах, ни в Савицком, ни в Веливецком, царь не встречал сего вот весёлого таинства духа, и правильно, что не спешил переводить Москву в католицизм.
По крещении пошли все на литию. Помянул — в святом тайном месте груди — костромского своего «незаконного» деда. Ратовал и думал о небесном — не своём — царь. Поклон — ниже, ниже... Сквозь тонкие нечёткие краски, ясные стены — смеётся вокруг кто-то. Вместе с ними и дед?..
Ещё душу ниже царище-ничтожище! А оттуда внезапно и метко её вверх...
Веками простаивали так, временами касаясь челом плитняка, преспокойные в переживании всестрашном люди. Пели одни и те же тропари, влеклись куда-то на одних крылах, сильные и слабенькие, почти что чистые и перепачканные в «блеск радуг»... В конце концов, конечно, умирали, быстро к небесному ещё на земле причастившись, если везло. И по смерти верные — кто из геенны, кто с небес — прислушивались к чуть шелестящим литиям православного земного моря. Кто сразу связно дышал, кто только усиливался и не мог раздышаться Небом, которое и при житье на земле было над ним, а он жил так, как будто не было... Но вот он, былой человек, всё же дышал здесь и жил «на волоске» благовонных дымков от низовых человеческих заутрен и обеден. Слава Богу, сей строй волн был животу души внятен... Иные же, уже возросшие в небесной силе, сами из тамошних храмовых рощ навеивали семена добра на целину земли и чутко наклоняли — в меру земляного горлышка — ковши своего света.