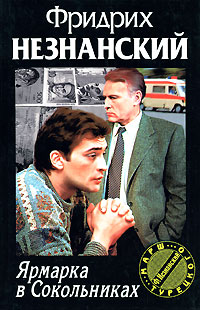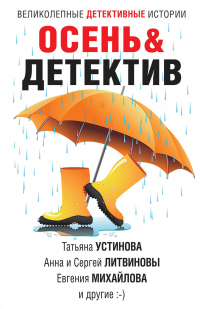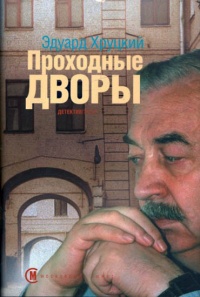Книга Осень в Сокольниках - Эдуард Хруцкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Зазвонил телефон. Юрий Петрович посмотрел на него и усмехнулся. Настроение у него сразу улучшилось, словно звонок разрезал невидимую нить, связывающую его с прошлым.
Он по привычке проверил окна, посмотрел, выключена ли плита, и вышел. Долгушин не стал запирать дверь на все замки. Зачем? Он просто захлопнул ее и пошел к лифту. Выйдя из подъезда, он усмехнулся и выбросил ключи в кусты. Родину не унесешь на подошвах сапог. А он и не собирался. Он найдет другую. Он вел машину и прощался с Москвой. Больше никогда он не увидит этого города. Долгушин не жалел об этом. Не очень-то просто он прожил свои пятьдесят семь лет на его улицах.
Прощай, «Националь», прощай, Пушкин, тебе еще долго стоять здесь и грустно смотреть на копошащихся внизу людей. Маяковскому он даже не кивнул, а от Горького просто отвернулся. Он не любил ни того ни другого. Проплыл за окнами бульвар Ленинградского проспекта, и под колеса легла прямая дорога до Шереметьева, прямая дорога до Парижа.
Долгушин припарковался на стоянке, вынул чемодан и кейс, вышел из машины. Ключи он бросил в урну у входа в аэропорт. Потом началась предотлетная суета. Руководитель нервничал, опаздывал художник Ильин. Наконец он появился, и все облегченно вздохнули. Наступила очередь таможни. Молодой вежливый инспектор попросил открыть чемодан, взглянул мельком, посмотрел декларацию.
— Все ценности вы обязаны привезти обратно, — предупредил он.
— Конечно, я выезжаю не в первый раз.
— Советские деньги провозите?
— Да, — Долгушин достал бумажник, — двадцать пять рублей. Обратная дорога, такси.
— Я понимаю, но вы их забыли указать в декларации.
— Я впишу.
— Лучше напишите все заново.
Долгушин посмотрел в зал, его группа уже сдавала багаж.
— Не беспокойтесь. — Второй таможенник взял его чемодан и отнес на весы, положил на ленту транспортера.
— Не беспокойтесь, — сказал инспектор, — вы успеете.
Он быстро оглядел декларацию, поставил штамп.
— Вот ваш квиток на чемодан. Счастливого пути.
— Спасибо.
Долгушин прошел контрольный турникет и зашагал к пограничникам. Его группа уже оформила все выездные формальности, и он обрадовался этому. Ему хотелось пройти свой последний путь одному. Заполнив контрольный листок, Юрий Петрович протянул паспорт пограничнику. Молодой сержант в зеленой фуражке внимательно проглядел его, поставил штамп КПП «Москва».
— Проходите, счастливого пути!
— Спасибо.
Ну вот он и за границей. И хотя идет Юрий Петрович еще по переходам Шереметьева, он уже попрощался с Москвой.
Бар. Здесь торгуют на валюту. Он словно преддверие того мира, в который через несколько часов попадет Долгушин.
Нельзя унести родину на подошвах сапог.
Дурак он был, Дантон, хотя и числился в трибунах Конвента.
Долгушин шел сквозь разноголосый мир. В зале перед баром говорили на всех языках мира. Нет, это не зал аэропорта, это первая станция его поезда, перед конечной остановкой. Здесь даже пахло иначе. Дорогими духами и сладким соусированным табаком.
Долгушин удобнее перебросил на руке плащ и, помахивая кейсом, пошел к галерее, надо догонять группу.
Через стеклянные окна он видел большие машины со знаками мировых авиакомпаний. Читал названия. И они сладкой музыкой звучали в его голове: «Люфтганза», «Пан-Америкэн», «Сабена».
Он шагал по застекленной галерее, уверенный, собранный, удачливый. Перед посадкой в самолет он вытрет о ступени трапа подошвы ботинок. Ничего не надо уносить с собой. И тут Долгушин увидел человека, стоявшего прямо посередине галереи. Он стоял твердо, по-хозяйски, чуть расставив ноги. Пиджак его был расстегнут, и Долгушин увидел кобуру пистолета, высящую на ремне. Теперь границей для него стал этот человек. Он закрывал собой тот мир счастья, в который должен попасть Долгушин.
Внутри его все похолодело, и страх, неосознанный и внезапный, сжал сердце, заставив его биться тревожно и гулко. На секунду потемнело в глазах. Но он все равно продолжал идти, словно лунатик. Долгушин не заметил и не понял, откуда взялись два молодых парня. Они держали его за руки, он стоял, но мысленно все равно шел по этой знакомой ему стеклянной галерее к дверям, где проверяют билеты, автобусу, потом к трапу…
— Гражданин Долгушин? — Высокий человек подошел к нему вплотную.
Долгушин кивнул, горло сжало, и он не мог произнести ни слова.
— Юрий Петрович?
Он опять кивнул. Высокий полез в карман пиджака, вынул красное удостоверение, развернул.
— Уголовный розыск. Прошу следовать с нами.
Один из сотрудников защелкнул на его руках наручники. Долгушин дернул руками. Холод металла на запястьях вывел его из состояния прострации, и он покатился по полу, крича хрипло и задушенно.
* * *
Кафтанов сидел в кабинете, сбросив генеральский китель, без галстука, в расстегнутой форменной рубашке.
— Как? — спросил он вошедшего Вадима.
— Привез.
— Ну, слава богу, а я уж начал думать, что ты его в Париж отпустил.
— Да нет, — Вадим сел, потер лицо ладонями, — привез.
— Как он себя вел?
— В шоке. Двадцать шагов до летного поля оставалось.
— Садист ты, Орлов.
— Так это не я придумал.
— Ну, значит, мы с тобой садисты. Что-нибудь есть? Вадим достал бумажник, вынул чек. Кафтанов посмотрел, присвистнул:
— Подпись-то Корнье. Теперь мы с ним по-другому поговорим.
— Неужели улик мало?
— В нашем деле всякое даяние благо.
Кафтанов вышел из-за стола, сел напротив Вадима.
— Ты молодец, Вадик, ты даже не знаешь, какой ты молодец.
— Почему же, — ответил Орлов, — знаю. Еще как знаю.
— Невежа ты, — рассмеялся Кафтанов. — Есть повод, можем вполне позволить себе по пять капель.
— Идея. А где?
— Естественно, у тебя. Ты же молодец, а не я.
Зазвонил внутренний телефон. Кафтанов устало поднялся, снял трубку.
— Кафтанов… Так… Так… Сейчас приедем.
— Что случилось? — лениво поинтересовался Вадим.
— Долгушин твой косит под сумасшедшего.
— Долгушин? — Вадим расхохотался.
Он вспомнил каменное лицо задержанного, когда в отделении милиции в аэропорту они обыскивали его вещи.
— Пойдем в изолятор, посмотрим.
Они вышли из кабинета, по лестнице спустились вниз, пересекли пустой двор.
— Ну, что у вас? — спросил Кафтанов дежурного.