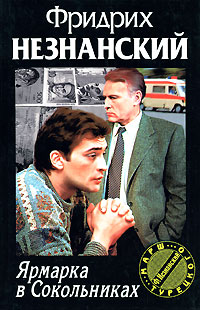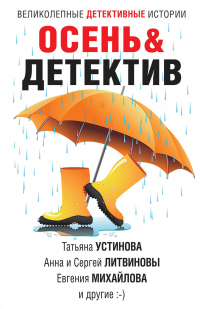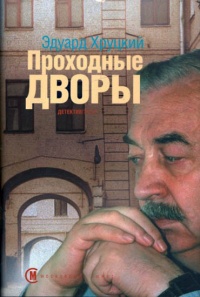Книга Осень в Сокольниках - Эдуард Хруцкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
Марина пила кофе прямо в ординаторской. Ей очень хотелось курить, но в больнице ко вкусу сигареты примешивались запахи эфира и лекарств, и она решила потом выйти на улицу. Она пила кофе устало и бездумно. День выдался тяжелым, ей пришлось ассистировать при двух операциях. Уехав ночью от Вадима, она еще не знала, как сложатся их отношения дальше. Марина ждала, когда он позвонит, и тогда все опять станет простым и ясным. Она сидела у телефона дома, предупредила всех на работе, что ждет крайне важного звонка. Вадим не звонил. И, проснувшись сегодня утром, Марина поняла, что он не позвонит вообще. И, поняв это, решила для себя, что она в его жизни оказалась не одной из многих, а из многих одной. И догадка эта мучительно оскорбила ее, готовую отдать этому человеку себя всю. Видимо, она была ему не нужна. Иначе как же объяснить то, что он не нашел времени ни разу позвонить ей. Конечно, она чувствовала некоторую неловкость за свой поступок. За этот дурацкий ночной разговор и уход. Но ведь она той ночью боялась только за него. Неужели Вадим не смог понять этого? Уходя из его квартиры, она уходила не от него, а от той жизни, которой он жил. Она защищала его, защищала себя. И пусть средства были негодными — главное, сам поступок. Кофе был горячим, и Марина пережидала, когда он остынет, поглядывая на молчавший телефон.
— Мариночка! — Дверь распахнулась. — Срочно на операцию. Профессор уже пошел.
Марина, обжигаясь, глотнула кофе и побежала к лифту. Ее шеф, профессор Лазарев, высокий тучный человек, с огромным щекастым лицом, распоряжался сестрами, как солдатами. Голос его гремел в операционной.
— Где Денисова?
— Я здесь, Анатолий Константинович.
— Готовьтесь, сейчас начнем.
На столе лежал молодой парень лет двадцати трех, не больше. Лицо было серым, губы посинели, нос заострился. Только широко открытые, огромные от боли глаза смотрели в потолок неподвижно и строго.
— Наркоз, — скомандовал Лазарев.
Вся грудь парня была разворочена, такие раны Марина видела в Афганистане, когда в человека стреляли в упор из автомата. Профессор работал уверенно и точно. Марина любила следить за его руками во время операции, казалось, что они жили отдельно от него. Сильные, упругие, красивые.
— Давление падает, — сказал кардиолог. — Пульс исчезает.
Лазарев привычно командовал кардиологами, а Марина смотрела, как все больше и больше бледнеет лицо этого мальчика, как выступили скулы и легла на лицо тень смерти. Лазарев выругался и сорвал маску.
— Сволочь, алкаш поганый!
— Кто? — изумилась Марина.
— Этот мальчик — лейтенант милиции. Он возвращался домой, а какая-то пьяная сволочь выскочила с ружьем и начала стрелять. Во дворе были дети, вот этот мальчик и закрыл их.
В голове стало пусто и гулко, все внезапно поплыло перед глазами.
— Марина… Марина… Что с вами?
Слова доносились неясно, как сквозь вату. Она почувствовала резкий запах нашатыря, и вновь все стало на свои места: лампы под потолком, двери, выкрашенные белой краской, лица людей.
— Вы что же, Марина, пугаете нас? — спросил Лазарев.
— Мне что-то не по себе, Анатолий Константинович.
— Езжайте домой, выпейте коньяку и спать.
Марина не помнила, как переоделась, как отвечала на чьи— то вопросы, как бежала по лестнице вниз к автомобилю. Она действовала безотчетно, казалось, кто-то другой на расстоянии посылал сигналы управления ее поступками. Пришла в себя она только в машине, достала сигарету, закурила и заплакала. Так она и ехала по улице, плача от жалости к себе и от тревоги за Вадима. Она приехала домой, набрала служебный номер Орлова. Телефон не отвечал. И она даже представила себе этот аппарат, обязательно большой и черный, такие аппараты стояли в квартирах в пятидесятых годах.
Марина пошла на кухню, открыла холодильник, вынула бутылку водки, оставленную еще отцом. Водка была какая— то необыкновенная, привезенная ее старику приятелем из Лондона. Она протерла бутылку, отнесла ее в гостиную. Потом достала чемодан и начала укладывать вещи. Все для первого ночлега. Так говорила Ирка. Поверх она воткнула бутылку и с трудом закрыла чемодан. Она позвонила и стояла, прислушиваясь. Наконец дверь открылась, на пороге стоял заспанный Валера.
— Это ты…
Он увидел чемодан и взял его.
— Молодец, что пришла, а то подполковник Орлов совсем почернел.
Юрий Петрович Долгушин собирался. На столе лежали золотые запонки и бриллианты, массивный платиновый портсигар, на крышке которого драгоценные камни затейливо переплетались в две буквы Ю.П. Конечно, это были не его инициалы, тем более что портсигар он купил случайно, но все же эти буквы имели какое-то отношение к нему. На столе лежала еще золотая заколка для галстука с изумрудами и тяжелые часы. Массивные, карманные, с двумя крышками и толстой цепочкой с брелоками. Конечно, в обычное время он не позволил бы себе подобного купеческого безвкусия, но это было единственным, что он мог провезти за границу. Нет, он не собирался проносить это контрабандно. Все будет указано в таможенной декларации. Просто любит человек носить золотые вещи: с ними уезжает, с ними возвращается. Чемодан уже был сложен, в нем лежало три костюма, белье и рубашки. На лацкане верхнего была прикреплена лауреатская медаль. Больше он взять не мог. Да и не хотел, впрочем. Положил в чемодан лучшие костюмы, а новый надел на себя. Еще хороший дорогой плащ. В общем, на первое время он был одет. Остальное он купит там. Долгушин открыл бумажник, вынул чек, еще раз посмотрел на цифры. Вместе со сбережениями, положенными Корнье в банк на его имя, деньги у него были приличные.
Юрий Петрович вышел на балкон, внизу, у подъезда, виднелась крыша его «Волги». Он снова вошел в комнату, сел в кресло. В коридоре тускло поблескивали стекла книжных стеллажей.
Налаженная жизнь. Налаженный быт.
И ему внезапно стало щемяще-тоскливо. Здесь, в Москве, у него было все. А там?.. Деньги. Там надо все начинать заново. Не такие уж большие деньги, по сравнению с теми, что он имел дома. Там надо все начинать заново. Там он не прикроется спасительной медалью. Там не будет Гриши. Он вспомнил, как в «Национале» кинорежиссер Дубравин сказал своему приятелю, эмигрирующему за границу, и поэтому нервно веселому:
— Я не хочу говорить об этической стороне твоего поступка, но помни, Борис: еще Дантон сказал, что родину нельзя унести на подошвах сапог.
Где-то в глубине его внутренний голос сказал: «А может быть, и не надо».
Действительно, чего проще, позвонить знакомому врачу и сегодня же лечь в больницу.
— Нет, — ответил он сам себе, — поздно.
Империя рухнула, и на ее территорию в любой момент могли ворваться завоеватели.
А Юрий Петрович больше всего боялся именно этого момента. Он встал, подошел к книжным полкам. Если была в его жизни подлинная страсть, то это книги. Он собирал их мальчишкой, нищим студентом. Не продал ни одной даже в самые трудные времена. Теперь приходится оставлять. Это было нестерпимо больно. Только они являлись его подлинными друзьями. Только они дарили ему радость и отдохновение. Что его ждет там? Богатство, успех? А может, нищая старость, обычная судьба эмигранта? Долгушин закурил, вынул из жилетного кармана часы, нажал на репетир. Они пробили шесть раз. Пора.