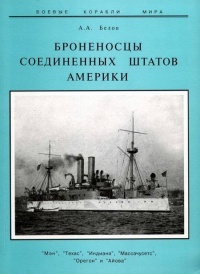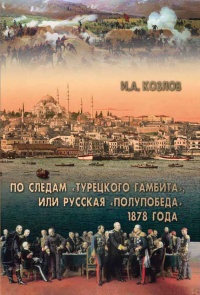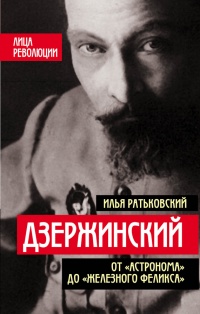Книга "Еврейское слово". Колонки - Анатолий Найман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это книга приключенческая, но прежде всего мировоззренческая. У приключений, увы, плохой конец много чаще, чем хороший. Зато мировоззрение не подкачало. По той уникальной причине, что оно не в разладе с совестью. Совесть его и сформировала. Оно стоит на том, что люди вокруг тебя такие же, как ты. Одни в худшем, чем ты, положении, другие в лучшем. Которые в худшем, нуждаются в помощи; которые в лучшем, не вызывают зависти. Всё.
Мы все придерживаемся той или другой морали, жизненной философии. У нас есть принципы, критерии, установки. Убийца, мародер, насильник – преступники, негодяи, для порядочного человека контакт с ними невозможен. А мы порядочные, не так ли, мы всецело с теми, кого они режут, грабят, мучают. Мы хотели бы их спасти, поддержать. Но если это намерение существует не только в нашем воображении, а и в реальном пространстве, нам придется запачкаться об этих злодеев. Добиваться встречи с ними, просить их о снисхождении к жертвам, предлагать им взамен что-то, что их заинтересует. Мы?! С этими подонками?!! Никогда!!! Я таким руки не подаю, чай с ними пить не сажусь… А без руки, без чаю, они на тебя и смотреть не станут, разве что кокнут мимоходом… Пусть умру, но до них не опущусь… Ты умрешь, это ладно, но ведь и те умрут. Которых ты собирался спасти.
Таковы мы. Однако не Измайлов. Странная вещь, в той же степени, что с порядочными, он действительно имеет дело с дурными и дрянными людьми, с мерзавцами, уголовниками, но это его не пачкает. Может быть, потому, что на нем не белые одежды, а гимнастерка, боевой камуфляж, шинель. Он армейский офицер. Сперва капитан, на афганской войне. Где критерии другие и принципы неприменимы. Установок две: первая – выполнить приказ, вторая – выжить. Не за счет других. То есть одна не совместима с другой. Например: в его роте есть солдат, молоденький, толку никакого, сплошные нарекания. И им вдвоем надо вывести военную машину из-под обстрела. Жестокого, один на их глазах уже убит. И этот никуда не годный малый, который даже не знает, как включается задняя скорость, бежит к машине и – проезжает. С того дня никаких между ними конфликтов, хотя оснований меньше не стало.
Потом Измайлова переводят в военкомат, он отвечает за призыв в армию. И тут чеченская война. Ребята, которых он призывал, начали погибать. Он сказал – себе и через газеты людям: «В этом преступлении я не должен участвовать». И стал увольняться из вооруженных сил. Его вызвало начальство, но времена были не нынешние, никто не угрожал, даже не ругался, предложили: у нас есть другие места, не военкомат. Он сказал: Чечня. Куда я отправлял призывников. Приехав, он повел себя так же. Командующий округом говорил во всеуслышание: «Такой майор нам не нужен». Потому что там дело шло уже не о несправедливости, а о узаконенном беззаконии. Федералы и боевики убивали людей по своему усмотрению. От боевиков надо было получить раненных солдат и тела убитых. Он поехал к ним на бэтээре, сверху, и фуражку снял – чтобы видели, что он в их руках. Один прицелился, командир сказал: «В этого лысого майора не стрелять». Он вывез раненых. В другой раз убитых, чеченцы помогали открывать могилы и нести.
Потом пошли месяцы обмена пленными. Сперва требовалось узнать, кто с обеих сторон в плену жив, а кто пропал, умер. Все это во враждебном окружении, с помощью от начальства, мягко говоря, условной, каждую минуту неизвестно на чьей мушке. Большую часть суток в темноте, по местности, непонятно кому принадлежащей, по дорогам неразведанным. А потом начались годы освобождения заложников.
Заложников похищали повсюду. В Москве, в провинции, не говоря уже о самом Кавказе. Одно время, по словам Измайлова, это был «бюджетообразующий» промысел Чечни. Журналист брал интервью у Басаева, после чего помощник Басаева увозил журналиста в зиндан. Выкуп назначался умопомрачительный, произвольный: 5 миллионов долларов – потом могли согласиться и на 50 тысяч, в особых случаях и так отдать. Через некоторое время пришли к новой системе отношений: мы тебе такого-то и такого-то, а ты нам в обмен нашего, арестованного вашими. Не важно, за что: за нападение на блокпост или за ограбление на московской улице.
И вот тут я хочу сказать, что́ в этой книге главное. Измайлов принимает действительность такой, какая она есть. Он сталкивается с человеческим родом в худших его проявлениях и в лучших. Показывает степень низости одних и высоты других. Но не характеризует вторых как светлых личностей, а первых как подлецов. Просто жизнь состоит из тех и этих, в нерасторжимой смеси. Если нужно освободить мальчика, которому в погребе отрезают пальцы, чтобы отец поторопился с выкупом, то это необходимо сделать как можно быстрее. И не сосредотачиваться на том, что его тюремщик, как выясняется, не чеченец, а русский обыватель из Пензы, и мальчик не русский, а израильтянин.
Умирают последние свидетели Холокоста, последние выжившие в нем, последние помнящие, как приходило в дом известие о близких, исчезнувших в нем. С ними умрет и сам он как реальность, как боль, пережитая живыми людьми. Он станет историческим событием – в один ряд с угоном евреев в Вавилон, разрушением Храма, изгнанием из Испании, Богданом Хмельницким. Останутся музеи, комитеты, конгрессы по его поводу. То, что было выражено философом Адорно в эссе 1949 года чеканной формулой «писать стихи после Аушвица – варварство», потеряет свой единственный смысл несовместимости красоты и мучений. Появятся догадки, не значит ли это также, что случившееся умертвило сами нервы, порвало струны, которые могли бы отозваться на него. Или что нельзя представить себе поэта, чей масштаб равновелик грандиозности сюжета. Или еще какие-то. И вообще, что это передержка современника, с ноткой истерической риторики, ужаснувшегося не только Катастрофе евреев, но катастрофе человечества, сотворившего и переварившего ее.
Однако опровержение слов Адорно появилось еще раньше, чем он их изрек. Однажды ему пришло письмо из Лондона от неизвестного музыковеда Ганса Гюнтера Адлера, который осведомлял адресата, что рецензировал на Бибиси одну из его книг. Также он упоминал, что является автором академического труда о Терезиенштадте (Терезине). Терезиенштадт – один из известных нацистских лагерей смерти. В начале 1942-го тридцатилетний Адлер, родившийся и живший в Праге, был с женой и ее родителями в него депортирован. Естественно ожидать, что пафос исследования, предпринятого одной из жертв, будет темпераментно обвинительным, но оказалось, что его можно назвать скорее вообще лишенным пафоса. Эта 900-с-лишним-страничная книга представляет собой исчерпывающее описание концлагеря в разнообразных аспектах от антропологии до экономики. Один из первых ее читателей – писатель Брох – характеризовал авторский метод как «холодный и пунктуальный, не только схватывающий все существенные детали, но и уводящий в глубь, где выявляются размера ужаса», а манеру письма как «чрезвычайно живую». Называется эта книга, ставшая в Германии основополагающей в изучении Катастрофы, сухо: «Терезиенштадт 1941–1945».
Что касается живости манеры, в этом нет ничего удивительного, ибо автор – поэт. Там, за колючей проволокой, в шаге от смерти, Адлер создал сто тридцать лагерных стихотворений: сто в Терезине, остальные при пересылке в Аушвиц и из Аушвица в лагеря, примыкавшие к Бухенвальду. Это классическая по форме поэзия, с регулярным ритмом и рифмой. В отличие от пронзительного и афористичного вывода Адорно о «варварстве» стихосложения на земле, удобренной пеплом и прахом шести миллионов индустриально истребленных человек, убежденность Адлера состояла в том, что стихи необходимы. Не только как ответ на внутренний творческий импульс – возможно, важнейшую силу, определявшую саму его жизнь, – но и для восстановления в себе человечности во время происходившего вокруг. В одном из позднейших интервью его спросили: «Не является ли акт написания такой книги [как «Терезиенштадт» и другой научно-исследовательской «Администрированный человек» (то есть подвергнутый административному взысканию)] формой самоистязания, бесконечным вспениванием ужаса, который большинство людей предпочло бы в себе подавить?» Адлер возразил: «Я бы не сидел здесь сегодня перед вами, если бы не написал ее. Эта книга обуславливает мое самоосвобождение». Он уточняет: «Я чувствовал, что не могу двигаться дальше, что боль случившегося оставит во мне бездну отчаяния, зияющую пустоту, если я не попробую преодолеть чудовищность и интеллектуально и эмоционально; и у меня не было другого выбора кроме как начать исследование». Стихи еще непосредственнее возвращали ему самоиндентификацию и волю к жизни.