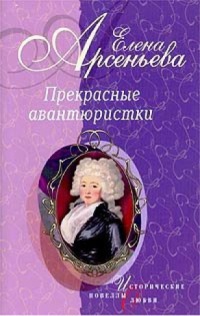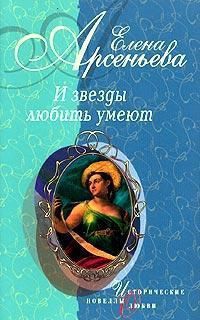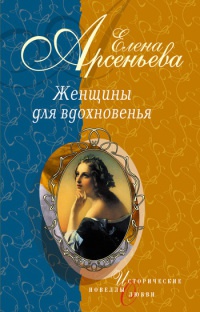Книга Дамы плаща и кинжала - Елена Арсеньева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Шептались, молчали, снова шептались… Екатерина Павловна спросила, не нужно ли чего. Ее тихий голос нарушил оцепенение Горького. Он открыл глаза, медленно оглядел каждого, словно бы с трудом узнавая, потом пробормотал:
— Я был так далеко. Оттуда так трудно возвращаться…
Липочка, обрадованная тем, что Горький пришел в себя, кинулась к доктору Левину и предложила ввести больному огромную дозу камфары — двадцать кубиков. Хуже не будет — хуже просто не может быть, но вдруг случится чудо…
Все испугались: а вдруг сердце не выдержит? Вдруг Горький после укола умрет?
Воззрились на Левина.
Левин только рукой махнул: делайте, мол, что хотите! Ему уже порядком поднадоела эта игра в Айболита. Скорее бы он умер, этот цепляющийся за жизнь писатель! Тогда задание было бы исполнено, он мог бы вздохнуть свободно…
Левин очень сильно обольщался насчет своего будущего, однако пока что этого не знал.
Липочка сделала укол, и Горький довольно быстро пришел в себя, огляделся не без негодования:
— Что это вы тут собрались? Хоронить меня, что ли, хотите?
И тут по комнатам раскатилось эхо телефонного звонка, и в спальне появился Ягода (он фактически не уезжал последнее время, то ли не в силах расстаться с Тимошей, то ли «курируя» процесс умирания Горького), имевший весьма бледный вид:
— Звонили из Кремля. Едет товарищ Сталин!
Бледный вид Ягоды был очень даже объясним: он несколько минут назад тайно телефонировал в Кремль и сообщил резюме врачей — насчет того, что надежды нет, конец настанет с минуты на минуту. Явно же было, что Иосиф Виссарионович выехал, чтобы отдать Горькому последний долг. Эффектная задумывалась сцена. Эффектная и трогательная! А тут — здрасьте вам… умирающий вроде как раздумал умирать.
Но не душить же Горького, в самом-то деле! Камфара продолжала действовать, и в ту минуту, когда в комнате появился Сталин, Горький выглядел если не как огурчик, то как человек, стоящий на пути к выздоровлению.
Сталин аж споткнулся на пороге. Посмотрел на Ягоду. Если бы взглядом можно было убивать, Ягода уже лежал бы трупом. Однако его словно ветром вынесло из комнаты при гневном окрике вождя:
— А этот что тут шляется?
Следующей досталось Муре:
— А это кто сидит в черном? Монашка, что ли? Свечки только в руке не хватает! Всех вон!
Мура исчезла.
Сталин был отличный актер и замечательно сумел подать собственное разочарование как гнев при виде преждевременных поминок «своего великого друга». Велено было подать шампанского, и вождь (во…дь!) выпил за здоровье Горького, мысленно пожелав ему сдохнуть как можно скорее.
А Горький, черти б его драли, вполне осмысленно и членораздельно вдруг начал рассуждать о своих творческих планах!
Сталин уехал с радостной улыбкой — мрачнее тучи…
Ягоде велено было немедленно реабилитироваться. И он сделал это руками писателя Александра Афиногенова. Вот что говорил о нем сам Ягода (позднее, на следствии): «Я подвел к Горькому писателей Авербаха, Киршона, Афиногенова. Это были мои люди, купленные денежными подачками, игравшие роль моих трубадуров не только у Горького, но и вообще в среде интеллигенции».
«Трубадур» Афиногенов таким образом воспел сцену, при которой он даже не присутствовал:
«Будущий биограф Горького занесет ночь 8 июня в список очередных чудес горьковской биографии. В эту ночь Горький умирал. Сперанский уже ехал на вскрытие. Пульс лихорадил, старик дышал с перебоями, нос посинел. К нему приехали прощаться Сталин и члены Политбюро. Вошли к старику, к нему уже никого не пускали, и этот приход поразил его неожиданностью. Очевидно, сразу мелькнула мысль — пришли прощаться. И тут старик приподнялся, сел… и начал говорить. Он говорил пятнадцать минут о своей будущей работе, о своих творческих планах, потом опять лег и заснул и сразу стал лучше дышать, пульс стал хорошего наполнения, утром ему полегчало. Сперанский схватился за голову от виденного чуда. Так, вероятно, Христос сказал Лазарю: «Встань и ходи!» Сперанский объясняет это шоком в ту часть коры головного мозга, которая ведает дыханием и сердцем, и шок этот оказался благодетельным».
Краси-иво… И про Лазаря-то как душевно!
Во всей этой «трубадурщине» правда только то, что Горький не умер, когда того ждали. Ну что ж, двадцать кубиков камфары — это вам, товарищи писатели, не кот начихал! И еще есть такое слово — «ремиссия»…[58]
Так или иначе, Буревестник продолжал дергать культяпками, которые у него оставались вместо крыльев. Он даже делал заметки о своем самочувствии: «Вещи тяжелеют: книги, карандаши, стакан, и все кажется меньше, чем было.
Конца нет ночи, а читать не могу.
Забыли дать нож починить карандаш.
Спал почти два часа. Светает.
Кажется, мне лучше».
Да, ему явно стало лучше! И Сталин встревожился: в Москве находился французский писатель Андре Жид, на 18 июля была запланирована его встреча с Горьким. Сталин боялся даже думать, что может накаркать ополоумевший Буревестник знаменитому вольнодумцу! Например, начнет вспоминать о неожиданной смерти Барбюса… Как бы шуточка насчет некоего насекомого не показалась детской шалостью!
Рисковать и полагаться на естественный ход вещей было нельзя.
17 июня Ягода тихо сказал Муре, чтобы она незаметно вышла и села в машину, которая ее поджидает за оградой. Она послушалась.
Черный автомобиль остановился на опушке леса, вскоре у нему подъехал еще один автомобиль, в котором сидел Ягода. Он предложил Муре выйти, и они какое-то время ходили под деревьями. Ягода говорил, Мура слушала, низко опустив голову.
Несколько раз она взглядывала на собеседника и кивала. Потом они разъехались и вернулись в Горки порознь. Очень кстати грянул внезапный летний ливень, и никто не заметил, как Мура появилась в доме и сразу прошла в спальню Горького.
Он не спал, был в сознании, около постели клевала носом Липочка.
Мура неслышными шагами прошлась по комнате, посмотрела на тумбочку. Там стояли два стакана: один с водой, другой пустой. Мура взяла наполненный стакан, поднесла его к губам, потом покачала головой, вышла с ним, вернулась, поставила его на прежнее место.
Горький смотрел на нее мутными глазами.
— В воду сор попал, — сказала Мура, как будто ее о чем-то спросили. — Я заменила.
Липочка подхватилась, испуганно моргая со сна.
— Ой, Марья Игнатьевна, — сказала она. — Я и не слышала, как вы вошли. Сморилась.
— Сморились, так идите отдохните, — ответила ей та с непривычным, жестким выражением лица, и Липочка вдруг вспомнила, что перед ней все-таки баронесса, не кто-нибудь. А она-то ее запросто: Марья-де Игнатьевна…