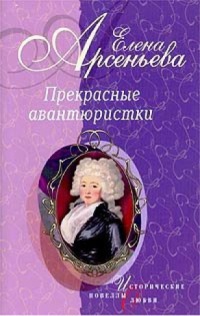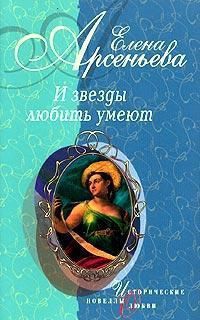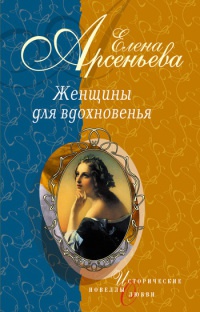Книга Дамы плаща и кинжала - Елена Арсеньева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Чудо, а не мужчина! Верил во все, что ему ни скажут!
Ну как тут не вспомнить Пушкина, в свое время столь кстати процитированного Петерсом:
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!
Вот и хорошо. Как говорится, меньше знаешь — лучше спишь…
В 1928–1936 годах Мура жила самой что ни на есть напряженной и интересной жизнью, лишь косвенно связанной с работой на ОГПУ. То есть она продолжала оставаться информатором, но никаких конкретных заданий не получала. Докладывала обо всем, что происходило, что мелькало перед глазами, что случайно долетало до ушей: о настроениях среди эмигрантов (она жила в Лондоне в доме, битком набитом русскими, практически в русском квартале, и с ней все бывшие соотечественники были очень доверительны); о настроениях европейской творческой интеллигенции (это в равной мере интересовало и Локкарта); о личной жизни и писательских планах Уэллса, который был с нею совершенно откровенен; о разговорах политиков, которых она встречала на приемах, куда попадала благодаря протекции Локкарта, и литераторов, с которыми сближалась в ПЕН-клубе (она уже стала его членом благодаря Уэллсу); о том, что в мире громадное значение придается искусству кино, а в России оно все еще недостаточно развивается, фильмов мало… То есть от нее поступала информация воистину обо всем на свете, и это все имело какое-то значение, ибо такой глобальной информационной сети, какой охвачен мир теперь, в ту пору еще не существовало, и каждая крупица сведений о жизни чуждого и чужого общества была ценна.
Что касается кино… Мура в этой области сделалась весьма компетентна, потому что знаменитый режиссер Александр Корда снимал в то время в Лондоне фильм по роману Уэллса «Облик грядущего» и считал, что с представительницей автора — баронессой Будберг — дело иметь гораздо приятнее, чем со вздорным гением. А потом Мура стала для Корды экспертом по русским реалиям при съемках «Екатерины Великой» и «Московских ночей»…
Тем временем Уэллс расстался со своей стервозной Одетт и теперь засыпал Муру предложениями узаконить их отношения. Он даже жаловался друзьям, что «женат, но жена не хочет выходить за него замуж». Он был от нее совершенно без ума, сформулировав свое отношение к Муре так: «Моя любовь целиком сосредоточилась на ней. Она делалась мне все необходимей. Когда ее не было рядом, мысли о ней буквально преследовали меня, и я мечтал: вот сейчас заверну за угол, и она предстанет передо мной — в таких местах, где этого не могло быть».
Уэллс снова и снова повторял свое предложение.
— Но жениться-то зачем? — спрашивала Мура, меняя слова, но не меняя сути. — Если я буду с тобой постоянно, я тебе наскучу.
Сначала ее отговорки забавляли Уэллса, но наконец стали тревожить. Тем паче что Мура частенько посылала телеграммы в Россию и получала телеграммы оттуда. Вот его собственные слова о том времени:
«Она мне рассказала, что ее зовет Горький. Горький серьезно болен, может быть, умирает и очень хочет ее видеть. Он потерял сына, и ему одиноко. Ему хочется поговорить о былых временах в России и в Италии.
— Не поеду я сейчас, — сказала Мура по дороге на телеграф, похоже, возмущенная столь настойчивой просьбой».
Но она все же вскоре уехала, опять сообщив, что к детям. Правда, теперь они жили в Швейцарии, а не в Таллине, и были вполне взрослыми. Однако снова — к детям…
Уэллс был раздражен этим внезапным и неуместным приступом материнской любви. Он оказался бы раздражен куда сильнее, он впал бы в ярость, если бы узнал, что ни в какой Швейцарии Мура не была, а если была, то лишь пару дней. На самом деле она ездила в Россию. И происходило это, начиная в 1928 года, не единожды!
Например, в 1934 году она вместе с Горьким совершала поездку по Волге до Астрахани и обратно на пароходе «Клара Цеткин». Была она на родине и в мае 1935 года. А также в июне 36-го…
Все эти поездки требовали от нее невероятной изворотливости и самообладания. Мало того, что Уэллс донимал ее своей ревностью! Из России шли настоятельные приказы как можно скорее отдать архив Горького, страшно раздражавшие ее: ну ведь и так все решено, отдаст она архив! Зачем так торопить события?!
Она не понимала подоплеки спешки: Сталиным уже была решена судьба Буревестника и назначен палач.
Так или иначе, Мура не делала тайны из требований Москвы вернуть архив — ведь это представляло ее невинной жертвой большевиков. Во всяком случае, Локкарт был в курсе этих требований… разумеется, преподнесенных в соответствующей упаковке.
Вот как описывает эту «упаковку» Берберова — со слов самой Муры, с которой она иногда встречалась: «Летом 1935 года Мура отказалась отдать архив Горького для увоза его в Москву, а весной 1936 года в Норвегии была сделана попытка выкрасть бумаги Троцкого[56]из дома, где он тогда жил. А вскоре после этого на Муру было оказано давление кем-то, кто приехал из Советского Союза в Лондон с поручением и письмом к ней Горького: перед смертью он хочет проститься с ней, Сталин дает ей вагон на границе, она будет доставлена в Москву и в том же вагоне доставлена обратно, в Негорелое,[57]она должна привезти в Москву архивы, которые ей были доверены, иначе он никогда больше не увидит ее. Человек, который передаст ей это письмо, будет сопровождать ее из Лондона в Москву, а затем — из Москвы в Лондон.
На этот раз она сказала об этом Локкарту, и Локкарт был единственный человек, который немедленно сделал вывод из этого факта: он прямо ответил ей, что, если она бумаг не отдаст, их у нее возьмут силой: при помощи бомбы или отмычки, или револьвера».
Итак, Мура появилась в Москве в первых числах июня 1936 года под самым что ни на есть приличным предлогом — привезя архив. Бумаги были у нее приняты, а потом ее отвезли в Горки, где жила теперь семья Горького (вернее, то, что от нее осталось), и предупредили держаться как можно скромней, а при могущей быть встрече со Сталиным не подавать виду, что они знакомы.
Предупреждение показалось ей смешным: Сталина она, помнится, видела раз или два в жизни, и вряд ли он вообще подозревает о ее существовании.
Во многих вещах она оставалась еще такой наивной…
Состояние Горького поразило Муру. Она и не ожидала, что дела его настолько плохи!
Он сидел в кресле, свесив голову, никого не видя, не узнавая. Все тело исколото, лицо, уши, пальцы синюшные, тяжелое, надрывное дыхание…
Врачи заявили, что положение безнадежно, конец теперь — дело нескольких минут — и вышли из комнаты, где остались только самые близкие Горькому люди: Екатерина Павловна Пешкова, Тимоша, медсестра Ольга Черткова, которую все называли просто Липочка, Крючков, Ракицкий-Соловей — и Мура.