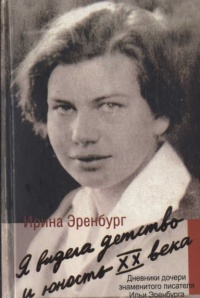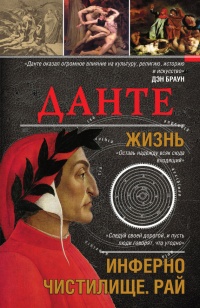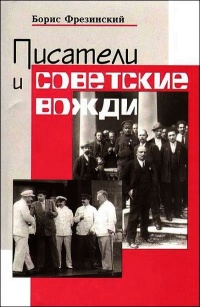Книга Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга - Юрий Щеглов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но обстоятельства оказывались сплошь и рядом сильнее запретов. То, что стало в начале войны известно Эренбургу и немногим другим в Москве, просочилось и в Томск. Растрепанная папка «Бухучет» пробила глазок в железном занавесе.
Каптерка
Каптерочка у конвойных оборудована классно. Два лежака, поверх овчина. Столик откидной у окошка, скамейка. Табурет с ведром воды. Сверху ковш плавает. Где-то подтибрили — расписной. Навесной шкафчик, спиртовка. Чайник, миски, котелок. Стекло прикрывает марлевая занавеска, сложенная вдвое. Электрическая лампочка подведена. Имеется и керосиновая, всегда заправлена, с толстым широким фитилем, не коптит. Ну и прочие приспособления есть. Сортир во дворе, подальше, сбоку, за деревьями.
— Шикарно вы тут обустроились, — сказал я зеку, впервые попав в каптерочку.
— Как люди, — кивнул один из конвойных.
Я его причислил к псковичам. Позднее я узнал, что в конвойные войска и впрямь охотнее брали из псковских и вологодских земель. Постепенно мы с Женей стали частыми и желанными гостями. Проникали на стройплощадку легко, оттянув до земли, как канат на боксерском ринге, обвисшую немного проволоку. Следователь бы сразу сообразил неладное, нащупал бы действие преступной руки, но, к счастью, в осенних и зимних сумерках на нас ни разу никто не обратил внимания. Пахнет в каптерочке овчинным теплом, портянками, кожей, машинным маслом, луком и жженым углем от буржуйки. Труба выведена не в окошко, а в специально проделанное отверстие в потолке и вокруг обмазана глиной. Сперва говорить было не о чем. Беседа вертелась, как зек выражался, вокруг шамовки и ломовых цен на рынке. Рынок в Томске убогий, про него и писать не хочется, не то что в Киеве Бессарабка или Сенной, а уж о знаменитом Евбазе — Еврейском базаре — и поминать не стоит. Евбаз всем рынкам рынок. Лучше Привоза в Одессе. Культурнее и разнообразнее. Там, на Евбазе, чего душа пожелает и в любом виде. И по дешевке, почти даром. А в Томске — на кучки, на стаканы, и цены действительно залетные! Сибирь, матушка! Люди крутят головами, но покупают — деваться некуда. Мороз не свой брат — голодные внутренности сожмет; и волком взвоешь. Я эту сибирскую вековую истину сразу постиг. Столовка и буфет основное, а приличные столовки только в обкоме, куда не проникнешь, в горкоме, который встроен в обком, и в прочих учреждениях, недоступных для простых смертных. Вот все эти проблемы мы сперва и обсуждали. Ну и студенческие курьезные происшествия. Как Мильков толстенные очки протирает, как Бабушкин к графинчику прикладывается, как Разгон — пьяненький — на пенечке в Роще, склонив лысоватую головку, сладко посапывает, ручкой ненароком прикрывая лауреатский значок. Разгон являлся неистощимой темой для анекдотов. Маленький, кругленький живчик, налитый коньячком и водочкой до краев. Студенты его любили. Читал курс своей выдуманной истории без запинки и бумажек и слушал ответы на семинарах вполуха. Зачет, зачет, зачет! Хор, хор, хор! И побыстрее! Бекицер, бекицер, бекицер! Про косоватого профессора Тарасова тоже любили в каптерочке рассказывать, как его в тупик поставила Люся Дроздова, задав довольно невинный вопрос: как будут по-латыни валенки? Тарасов постоянно носил валенки. Ох и смеялся профессор — не вспомнить, что ответил по существу.
Просто
Раз за разом, без принуждения и естественно, мы перебрались к другим сюжетам. Каждому хочется поделиться личным, пережитым. От себя никуда, да еще в столь странных обстоятельствах, не уйдешь. Женя ходила, я полагаю, в каптерку не из любопытства, а из идеалистических побуждений и желания уберечь меня от весьма вероятных неприятностей, которые, как ей мнилось, подстерегали за каждым углом.
— Да всем здесь на все наплевать! — успокаивая я ее. — Кому мы нужны! По этому переулку редко ходят.
— Ты зачем в Томск приехал! — колко спрашивала Женя. — В каптерке отсиживаться или учиться?
— Я приехал сюда, чтобы познакомиться с одной замечательной девушкой. Высокой, стройной как тополь, с туманными очами.
— Нет, я серьезно, — и Женя опускала глаза.
— И я серьезно. В Киеве подобных тебе нет. Там все толстые, глупые, и с ногами у них неважно. Короткие…
Стеснительная Женя всякие такие — физиологические — подробности стеснялась обсуждать. Она подбирала ноги под стул, пытаясь скрыть потрепанные туфли, и краснела. Я ее в два счета загонял в угол, но вместе с тем не мог ничего объяснить: зачем мне зек с каптеркой и двумя разложившимися конвойными, по которым плачет трибунал. С Женей я больше не целовался, только держались за руки. Просачивались сквозь ограду, усаживались на лежаке, покрытом овчиной, привалившись плечом к плечу, и дорожили возникшей условной близостью. Зек смотрел иронично, прищурясь.
— Не разберу что-то: женихаетесь ли вы или просто?
— Просто, — отвечала Женя. — Просто.
— Непохоже, — улыбнулся зек. — Из того обязательно да что-нибудь выйдет. Или свадьба, или сразу ребеночек. Просто так ничего не случается.
— Случается, — заступался я за Женю. — Очень даже случается. Вот мы, например, сюда приходим просто так.
— Нет, — возразил зек. — Ты не просто так ко мне прицепился. Ты узнать что-то хочешь, прояснить. Я вроде тебя людей встречал. Рискуют, а непонятно: зачем?
Таинственный народ суоми
— До войны с немцами, — уточнил зек, — у меня была девушка. Между прочим, тоже с образованием. В педтехникуме училась. А я служил в Житомире. Тут финская подкатила, и загребли в действующую армию в середине декабря. Сунули в теплушки, сухой паек и боеприпас в зубы — и нах Ленинград. На улице мороз. Та еще холодрыга, хоть и хохлацкая. Сырая — она похуже. Хлопцы в обмотках, политрук — жидок, вдоль эшелона мечется и орет: полушубки с валенками по прибытии. Я, ребята, вам никогда не врал! Но и правды, сука, не говорил. Не по-уставному кричит — по-свойски. В грызло ему засандалить тогда никто не отважился. На вокзал моя прибежала сама не своя, носки притащила шерстяные, рукавицы, шарф, соль, спички, мыло — целую котомку набрала. Я ее спросил: ты — что? Склад ограбила? Благодаря ее приносу и выкрутился. В концентрат сала шматочек бросал — кисти силой набрякали. Делился с соседом, он вяленой рыбой угощал. Да… Иначе бы кранты! Так что женская случайность тоже от Бога.
О девушке из педтехникума он много рассказывал. Как в Житомире на обратном пути встретила, как пальцы лечила обмороженные, как под окном в лазарете сидела часами, как уборщицей нанялась, чтобы совсем рядышком быть, и как потом убежала к другому, с двумя кубарями в петлице.
Конвойные слушали, глаза распялив. Они про финскую вообще ничего не знали. Да и я лишь в газете о белофиннах читал. О финской в Киеве никто ничего. Об испанской тарахтели с утра до вечера, а о финской ни гу-гу. Незнаменитая война, по трагически точному определению Твардовского, краем задела и промелькнула, как туча, гонимая ветром. Чего там не поделили? Кому дают отпор? Ни взрослые, ни дети не имели понятия. Зачем нам Карельский перешеек? Что там, кроме снегов и сосен? Про «кукушек» во дворе, правда, болтали, распространяя всякие небылицы. Позднее, уже после войны с немцами, я узнал, что ни одной «кукушки» в плен не взяли и не убили, чтобы труп корреспондентам предъявить. Так тех «кукушек» никто и не видел.