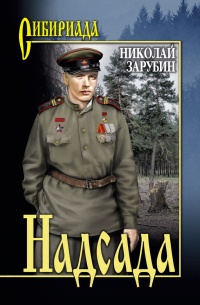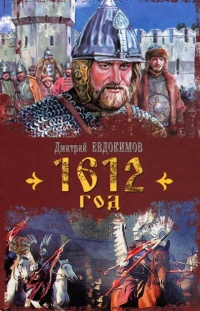Книга Духов день - Николай Зарубин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Счастливое семейство вертело в руках портреты, дивилось красоте собственных изображений, хозяин спешил в магазин за поллитровкой, хозяйка гоношила стол.
В гостях Петро Васильевич ел и пил в меру – это также было одним из его жизненных правил, которые никогда не нарушал.
– Выпить и покушать в свое удовольствие, – говорил он Томке, – я и дома могу. На людях надо иметь голову светлую и ноги твердые – приобрести уважение людей есть самый тяжкий из всех трудов. Посмотри на меня: всю свою жизнь я жил там, где хотел, и жил так, как хотел, и всюду оставил по себе добрую память. Я никому не завидовал, но и никому не давал себя обойти. Я мог быть руководителем крупного цеха фотографии, но не захотел. Я мог бы печататься в самых толстых журналах, но мне это было ни к чему, потому что тогда бы я был одним из многих, даже если бы мои снимки признавались лучшими. Я хотел одного – воли, свободы выбора, независимости от чего-либо и от кого-либо. Я много раз терял все – аппаратуру, материалы, деньги, но всякий раз возрождался из ничего и снова становился тем, кто я есть, – мастером, для которого в его ремесле не осталось секретов. Скажу больше: начать с нуля, исхитриться вывернуться в, казалось бы, безнадежной ситуации – это и было для меня наградой за постигнутую науку жизни – сломать хребет обстоятельствам, судьбе, року, еще раз попытаться промерить собственные возможности и убедиться в тщетности этого занятия, потому что они не поддаются никаким промерам. Я – самодостаточный одиночка, который ни в ком не нуждается, как, наверное, никто не нуждается и во мне.
– А я? Во мне ты… нуждаешься? – глухо спрашивала Томка, и нельзя было понять, чего было больше в ее вопросе: растерянности, тоски, любопытства.
– Что – ты? – смотрел он на нее, будто впервые видел.
– Я ж с тобой живу?..
Петро Васильевич некоторое время смотрел на нее, имея сильное желание обругать, но успокаивался, махал рукой и жестом этим как бы ставил на место и себя, и Томку. Затем произносил то, что она слышала от него сотни, а может, и тысячи раз:
– Ты бы пошла, собрала на стол чего-нибудь, надо бы подкрепиться…
И она уходила на кухню, закрытая и для него, и для себя, и для той работы, которую выполняла все годы их совместной жизни, не смевшая, да и не умевшая даже помечтать о бабьем, чем жили в повседневности все, кого знала и кому завидовала втайне, но не имевшая сил для того, чтобы поставить себя в доме вровень с ним.
Ее женская история началась чуть ли не с рождения. А появилась она на свет от бродяжки-цыганки, зачатая изголодавшимся по женской ласке русским солдатиком, отправившимся после госпиталя на фронт в первой, самой трудной, половине войны и сгинувшим где-то на полях сражений. Кто он был, какой фамилии, из каких мест, не знала даже осчастливленная им цыганка – мать Томки, а уж про нее и речи нет. Ребенка цыганка бросила почти сразу, оставив в каком-то городишке на пороге детского дома, из которого перевели ее сначала в приют для малолеток, затем для детей постарше, а уж домучивалась в детдоме под Москвой, откуда сбежала с проходившим через городок табором.
Плохо было Томке в детских заведениях, не лучше довелось пожить и у цыган – полукровку нигде не принимали как свою. Когда достигла девичьей спелости, приглядистую падчерицу табора совратил молодой неженатый цыган, побрезговавший или не захотевший, однако, соединиться с ней по цыганскому обычаю, и пришлось ей учиться жить самостоятельно.
Без документов, с ребенком на руках, меняя города и веси Центральной России, бродила она без какой-либо цели, выживая то подаянием, то разовыми работами на полях колхозов, то примыкая на короткое время к цыганским колониям, то ночуя в отделениях милиции, откуда выпроваживали мать-одиночку охотнее всего, так как судить или садить Томку было пока не за что, а судьбы людские послевоенные были настолько запутанны и трагичны, что и суровые стражи порядка умели отличить человеческую неприкаянность от человеческой порочности.
Добрела она так-то до городка Алексино, где и нашла приют в домике поварихи Натальи Беспрозванных, жившей сиротски по причине гибели на войне мужа и трех сыновей. Наталья работала в единственной столовой общепита и пила горькую, правда, больше в одиночестве, хотя, конечно, люди о том ведали и сочувствовали ее вдовьей доле. Приняли и Томку, не мешая ей за еду для себя и дочери помогать в столовой. И может, со временем все бы устроилось, если бы благодетельница ее Наталья не приучила Томку к рюмке, и то, что прощалось своей, местной, не простилось пришлой, чужой, и через пару относительно благополучных годков пришлось покинуть ставший родным городок Алексино и уйти куда глаза глядят. Наталья Беспрозванных наладила ей тормозок на дорогу, не забыв вложить в него и поллитровку спотыкача, молча проводила до окраины и так же молча обняла молодуху на прощание, обронив сквозь слезы:
– Вот теперь мне и вовсе жить не за чем…
Недалеко от Москвы, в заштатном городке Серпухове, на не очень людном базарчике на нее – полукровку, полугражданку, полубродяжку, полуалкоголичку – и обратил внимание Петро Васильевич, посещавший это примечательное место с известной целью – закупить продуктов. Наблюдал он Томку то с цыганами, то с фронтовыми калеками, то с серпуховским жульем и однажды, тронув за плечо, обратился к ней в свойственной ему доброжелательной манере, в которой, однако, чувствовались и воля, и мужская уверенность в себе:
– Ты чья же будешь такая, черноглазая?
И, выждав короткую паузу, тут же, как бы за нее, стал отвечать:
– Ты, черноглазая, не цыганка, хотя есть в тебе кровь вечных бродяг. Ты никогда не имела постоянного жилья и никогда не знаешь, где будешь ночевать со своей дочерью. У тебя нет близких, друзей, кто бы тебе помог. Ты одинока и не устроена, и это тоже твоя жизнь. Ты не знаешь, где будешь завтра. Мне кажется, что у тебя даже нет документов. Ты выпиваешь, ты…
– А кто ты будешь, мил человек? – хриплым, низким голосом прервала она его. – Чё тебе-то надо? Тела моего надо? Поразвлечься захотелось, дак у меня есть помоложе тебя…
Хотела повернуться, уйти, но отчего-то продолжала стоять, вызывающе глядя снизу вверх прямо в глаза этому бог весть откуда взявшемуся мужику.
– Посмотри на меня, – говорил он с той же доброжелательностью в голосе. – Разве я похож на мужчину, который ищет себе утеху на базаре среди всякого сброда? Я в театр, в ресторан пойду, на море в теплые края поеду…
– Ну и катись!..
Томка ко времени их встречи уже успела поднабраться и наглости, и хамства – всего того, без чего в ее положении вечной бродяжки и не прожить, и не отбиться от такого же, как и она сама, бросового люда, от милиции, от разного рода воспитателей, благодетелей, опекунов. Она уже постигла науку улицы, ночлежек, притонов. Она могла добыть кусок хлеба, рюмку горькой, могла вцепиться в волосы торговке, могла впиться ногтями в морду какому-нибудь бродяге. Она и в эту минуту была готова на все.
– Ты слушай меня, – сказал он неожиданно твердо и строго. – Ты себе самой не нужна – это я понимаю, не один день наблюдаю за тобой. Но ты нужна вот ей, своей дочери, девочке, которая сейчас держится за твою юбку. Короче, мое предложение такое: мне нужен помощник или помощница. Будешь работать – выправлю тебе паспорт, прописку, сама обуешься, оденешься, дочь в школу пойдет. А там Бог даст – одумаешься, захочешь жить как человек, с мужчиной нормальным станешь ложиться в постель, а не с этим (брезгливо показал глазами в сторону) сбродом.