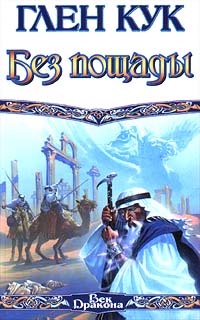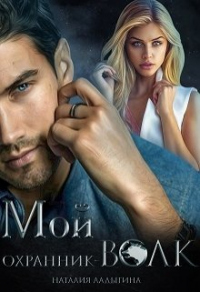Книга Викинг. Дитя Одина - Тим Северин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
От послушников ждали не только приобретения знаний, но также и сохранения и передачи наиболее ценных из них, а именно — Священного Писания. Нас учили копировать. Вновь нам выдали восковые таблички, по которым мы учились алфавиту, и показали, как выписывать литеры с помощью металлического стила и линейки. Мы повторяли все снова и снова на воске, пока не было решено, что нам молено доверить разметку уже использованного пергамента и переписку бледных и выцветших строк, оставленных предыдущими переписчиками, дабы мы постигли суть этого искусства. На этой стадии мы пользовались чернилами из ламповой копоти или очажной сажи. И только когда мы в совершенстве постигли писание deminuere, при котором, начав с большой заглавной буквы, постепенно все уменьшаешь и уменьшаешь литеры, так что к концу строки глаз уже едва различает отдельные буквы, только тогда самым искусным из нас было дозволено работать на новом пергаменте. Тогда-то я и понял, зачем монастырю потребны все новые и новые молодые монахи для прославленного скриптория, а также стада телят и ягнят, дающих кожу для пергамента. У молодых животных наилучшая кожа, у молодых монахов острое зрение. Лучшими переписчиками были люди от юного до среднего возраста, искусные, с хорошим зрением и замечательным художественным воображением.
Странно, но материалы, призванные радовать глаз, соотносятся в моей памяти с их запахом. Сырые шкуры телят вымачиваются в зловонном навозном настое для очищения от мездры и волоса, а когда их дубят в растворе извести, они испускают сочный, плотский запах. Галлы — дубовые орешки — имеют запах горький, когда их разминают для получения лучших чернил, а что до зеленых и синих цветов, то по сей день я чувствую запах моря всякий раз, когда вижу эти цвета. Их получают из соков известного моллюска, обитающего на камнях. Из него получают пигмент переходящего цвета — от зеленого к синему и пурпурному, для чего высушивают моллюска на солнце, и он все время издает едкий запах гниющей водоросли. А вдобавок — запах рыбьего жира, которым закрепляют чернила.
Превращение столь вонючих исходных продуктов в красоту на страницах само по себе есть чудо. Никогда я не был выдающимся переписчиком или рисовальщиком, но приобрел достаточно знаний, чтобы оценить, какое для этого требуется мастерство. Затаив дыхание, я смотрел, как один из наших самолучших иллюстраторов расписывает буквицы Евангелия, сочувствуя ему — вдруг он сделает промах. Это дело требует твердой руки и тончайшей кисти — для столь тонкой работы предпочтителен волос из беличьего уха, — и редкое сочетание воображения и геометрических навыков, дабы перевить хитроумные узоры, которые соединяются и изгибаются, подобно усикам некоего неземного растения. Любопытно, что они напоминали мне узорную резьбу, виденную мною — казалось, много лет назад — на выгнутом носу королевского судна конунга Сигтрюгга, на котором он плыл из Оркнеев. Как то случилось и почему узоры христианских буквиц и резьба на носу викингского корабля столь схожи, я не знаю по сей день. Но еще более странно, что многие плетения книжных узоров венчаются ревущей головой змея. Я могу понять наличие оной на высоком носу военного корабля — для устрашения врагов, но как драконья голова оказалась в книге Священного Писания, выходит за пределы моего понимания. Однако не над этим я размышлял тогда. Мой тогдашний вклад в каллиграфию был связан со строками, писанными черными чернилами и самым мелким почерком, который аббат Эйдан любил за то, что на каждом дорогостоящем квадратном дюйме пергамента умещалось наибольшее число слов, и мое дело было вставлять красные точки и ромбы, рассыпая их по странице как украшения. Я занимался этим долгие часы, ибо на одной странице количество их доходило до нескольких сотен.
Было бы неверно утверждать, будто вся моя жизнь в качестве послушника проходила в полях, учебной комнате или в скриптории. Церковные установления суровы, и, к несчастью, за них отвечал брат Эоган, который был полной противоположностью доброму брату Сенесаху. Внешность брата Эогана была обманчива. Он казался добряком. Круглый и веселый с виду — темные волосы и очень темные глаза, которые даже будто блестели насмешливым блеском. И голос у него был тоже гулкий, веселый. Но всякий из учеников, положившись на его добродушие, быстро разочаровывался. Брат Эоган имел нрав злобный и мучительное сознание собственной правоты. Он учил не посредством уразумения, но строго по памяти. От нас требовалось затверживать страницу за страницей Евангелия и писаний отцов церкви, и он испытывал нас на повторение текстов. Излюбленным его обычаем было выбрать кого-то, потребовать чтения на память, а когда жертва запиналась или делала ошибку, вдруг обратиться к другом ученику и крикнуть: «Продолжай! ». От страха второй чтец, конечно же, сбивался, и тогда брат Эоган налетал на них. Схватив обоих послушников за волосы, наш наставник заканчивал цитату сам, цедя слова сквозь сжатые зубы, лицо его было мрачно, и он отмечал каждую фразу глухим ударом, колотя две головы друг о друга.
Каждый послушник, а нас было около трех десятков, на свой лад устраивался в этом суровом мире. Большинство кротко сносило все и следовало сложившимся правилам и порядкам. И совсем немногие были преисполнены истинного рвения к монашеской жизни. Один молодой человек — его звали Энда, и он был несколько простоват — стремился во всем подражать отцам-пустынникам. Однажды, никому не сказав ни слова, он взобрался на вершину круглой башни. То было самое заметное сооружение в монастыре — узкий столп из камня, служивший дозорным местом во времена викингских набегов, а теперь использовавшийся как колокольня. Энда забрался на самый верх, и с земли его, ясное дело, не было видно, и просидел он там четыре дня и четыре ночи, и все это время остальные тщетно его искали. Только услышав его слабый глас, взывавший о хлебе и воде, и заметив конец веревки, которую он спустил сверху — он ошибся, рассчитывая высоту, и веревка далеко не доставала до земли, — мы поняли, где он. Брат Сенесах собрал спасательный отряд, мы вскарабкались наверх и сняли Энду, который с тех пор стал с трудом передвигать ноги. Его отнесли в лечебницу и оставили там поправляться, однако это происшествие, видимо, сделало его еще слабее на голову. Я так и не знаю, что с ним сталось потом, но скорее всего он принял постриг.
За те два года, что я провел в монастыре святого Киарана, из всех моих товарищей-послушников я по-настоящему подружился только с одним. Кольмана прислал сюда отец, зажиточный землевладелец. Видимо, когда на его стадо напало скотское поветрие, он воззвал к святому Киарану об облегчении, а в качестве лекарства умастил свою больную скотину бальзамом, сделанным из земли, которую наскреб с пола часовни оного святого. Когда весь скот поправился, он в порыве признательности отправил паренька — наименее даровитого из всех своих шестерых сыновей — к монахам как благодарственную жертву за столь благотворное вмешательство святого. Стойкий и надежный, Кольман всегда держал мою сторону, когда остальные послушники — из зависти, ибо я превзошел их всех в учении, — стали задирать меня, вменяя в вину мне чужеземное происхождение. За верность я платил Кольману помощью в занятиях — и мы вдвоем с ним образовали вполне дееспособную пару, когда дело дошло до нарушения монастырского устава.