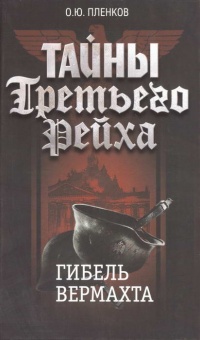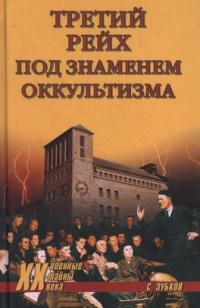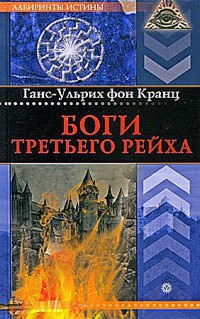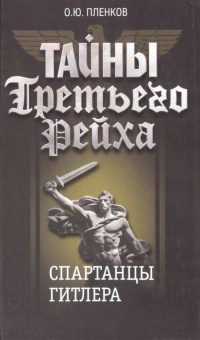Книга Дети Третьего рейха - Татьяна Фрейденссон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Я чувствую твой смертельный страх, и это возбуждает меня…» – говорит Никлас, представляя звук шагов отца, которого вводят в спортзал нюрнбергской тюрьмы. Еще пара минут – и отец будет повешен.
«Будучи ребенком, я превращал твою смерть в свою собственную. Я ложился в большом туалете на вонючий линолеум, разводил широко ноги, левая – около висящего члена, и, легко мастурбируя, представлял тебя, как ты ходишь туда-сюда по камере, как на тебе колпак и веревка вокруг шеи, – и вперед, в вечность. И я испытывал оргазм».
А лучшей усладой для его слуха мог быть только «хруст ломающегося позвоночника» отца, который музыкой отдавался в его ушах. А вот и прямое обращение к отцу:
«Я живу, ты понимаешь меня, ты слышишь меня: я живу! И старше тебя, чем был ты, когда умер. Я всегда хотел достичь этого. Я еще ребенком поклялся себе в этом. Даже если это всего лишь на секунду! А после этого я поклялся себе, что пойду на всё, чтобы освободиться от тебя, свиньи».
«Я живу» – как вопль отчаяния. Как манифест самому себе. Кого Никлас хотел в этом убедить, до кого докричаться, ведь книгу он писал не в десять— пятнадцать лет? Когда эти строки увидели свет, ему было сорок восемь.
Все, кто осуждает Франка-сына, уверены, что он безумен в своем преследовании отца. А может, всё не так? Может, это Никлас пронизан отцом, словно спорами плесени? Везде и всегда, сквозь всю его биографию, и не штрихпунктиром, а прямой жирной линией, нанизывая на себя жизнь сына, проходит Ганс Франк. Может, монолог сына, растянувшийся на десятилетия, – что-то сродни рвоте, безостановочной и мучительной? И такое публичное очищение организма – способ выжить, выблевав из себя заразу, которая сжирает Никласа изнутри?
Попытка спастись?
Или спекуляция во имя провокации?
А может, и правда болезнь? Отклонение?
Впрочем, диагностов в Германии нашлось превеликое множество.
К примеру, в книге German Life Writing in the Twentieth Century25 Никласу посвящена небольшая главка под названием «Вуайеризм?». Уж не знаю, что авторы углядели такого в Никласе заочно, – кажется мне, они сами занимались вуайеризмом, ставя человеку диагноз, ни разу с ним не встретившись. Надо бы спросить у них, почему они упустили из виду каннибализм, ведь Никлас также пишет, как представляет, будто пожирает еще теплое сердце отца.
Лично я не верю, что Никлас Франк сумасшедший. Для меня он человек с внутренней травмой. Такие люди – самые интересные. Потому что хочется сразу докопаться до причины этой травмы, обнаружить ее и попытаться извлечь, – как хирург извлекает из плоти пулю.
Весной 2011 года мы с Никласом Франком договорились встретиться в Нюрнберге для досъемок. Сейчас это просто тихий баварский городок с короткой памятью. Мы освежим эту память. Не без помощи Никласа: мы планируем прогуляться по памятным местам, связанным с последним годом жизни его отца, а также посмотреть кое-какие «останки» Третьего рейха.
Франк, насколько я поняла, любит этот город. Иногда приезжает в архив, чтобы поискать материалы для очередной обличающей нацизм книги. Единственное место, куда ему за долгие годы не удалось попасть, – тюрьма, где казнили отца. Не удивительно, ибо тюрьма действующая, так что оказаться по ту сторону массивной бетонной стены – отдельная трудность. Не для меня. Дело в том, что я заранее официально договорилась с начальниками Дворца правосудия и тюрьмы, что мы сможем побывать не только в зале суда № 600 (где почти год длился суд над высшими чинами Третьего рейха), но и в тюрьме, где в 1946 году казнили Франка и где сам Никлас больше шестидесяти лет назад был на последнем свидании с отцом. Свидании, о котором Франк-младший вспоминал во время нашей первой встречи у него дома:
– В сентябре сорок шестого мы, мать и пятеро детей, поехали к нему в Нюрнберг. Процесс уже завершился, и 1 октября должны были объявить приговор. Мы еще с лета сорок шестого знали, что отца казнят. У него не было никаких шансов, так сказал матери его адвокат, доктор Зайдель. Даже в школе дети дразнили меня: «Твоего папу скоро повесят». А мне было семь лет. Короче, я ехал туда, уже зная, что это будет последний раз, когда я увижу своего отца.
Там же, дома, в Шлезвиг-Гольштейне, Никлас показал нам на мониторе ноутбука еще одну фотографию: кто ее сделал, он не знает. На ней женщина, чье лицо трудно разглядеть за черной широкополой шляпой, в траурного цвета костюме с длинной юбкой, сжимает в руке, обтянутой черной перчаткой, лист бумаги – пропуск в нюрнбергскую тюрьму для последнего свидания с мужем. Рядом с нею идут двое детей: младшая дочь Бригитта, в юбочке и свитере застыла на ходу с коробкой в руках, и младший сын Никлас, в жилетке поверх белой рубашки с галстуком, лицо которого скрыто локтем материнской руки.
Никлас помнит эту встречу детально:
– Во время встречи я сидел на коленях у матери перед стеклом, за которым был отец, а за ним стоял американский солдат в белой каске. В стекле были маленькие отверстия, чтобы лучше слышать друг друга. Отец, с радостной улыбкой на лице, сказал мне: «Ники (так называли меня в семье), скоро будем вместе праздновать Рождество, всё будет очень здорово, и я вам опять буду рассказывать сказки». А я сидел на коленях у матери и испытывал глубочайшее разочарование, потому что не мог понять, зачем он врет. Он же знает, что его повесят. Зачем он врет мне? Я был одновременно и зол, и огорчен. Я-то точно знал, что больше его никогда не увижу.
Часто Ганса Франка упоминают как единственного обвиняемого на Нюрнбергском процессе, который полностью признал свою вину, раскаялся, сотрудничал со следствием, не просил о снисхождении, а принял католичество и весь год, что длился процесс, молил Бога о прощении в своей маленькой тюремной камере. Странная и резкая метаморфоза, произошедшая с одним из самых жутких убийц в истории, не дает покоя и его сыну Никласу Франку. Он уверен – это очередная ложь отца:
– Итак, наша последняя встреча с отцом перед казнью. Он сидел и врал, что всё будет хорошо и скоро он вернется домой. Что за чушь, право слово! Если бы он, к примеру, сказал мне: «Ники, тебе семь лет. Ты знаешь, что мы видимся в последний раз. Меня наверняка приговорят к смертной казни. И это будет справедливо. Я виновен. Попытайся никогда не взваливать на себя такой грех, как это сделал я». Тогда я, наверно, разрыдался бы. Но зато я бы жил с этим совсем по-другому.
Сказать честно, кое-что меня тогда в этой истории смутило. Не на уровне фактов – на уровне ощущений. Семилетний мальчик, который спокойно, по-взрослому цинично смотрит на своего отца в последний раз и думает… о злодеяниях, которые тот совершил. Как-то хрестоматийно получается, как-то чересчур правильно, мелькнуло у меня в голове нежным всполохом крыла бабочки – одной из тех, что летали во дворе, за стенами деревянного дома Франка. А Никлас, закончив эту историю, откинулся на стуле, который издал одновременно и глухой, и пронзительный стон…
Именно после этой истории мне захотелось попробовать получить доступ в тюрьму. И я его получила. Только Никласу не сказала.