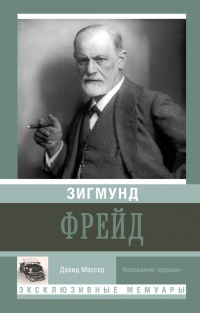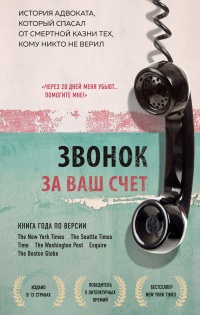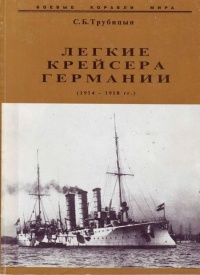Книга Апокриф. Давид из Назарета - Рене Манзор
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лонгин вошел в эту жаровню, сбивая языки пламени, цеплявшиеся к его одежде. Широко раскрыв ворота, он выпускал животных одно за другим. Подгоняя их к выходу, он с тревогой смотрел по сторонам, разыскивая своего верного товарища. От запаха горелой плоти его начало тошнить. Когда он дошел до конца конюшни, ему уже едва хватало воздуха. Дым с запахом серы был настолько густым, что мало что было видно.
Закашлявшись от едкого дыма, он уже подумывал о том, чтобы вернуться обратно, когда наконец-то увидел свою лошадь. Пытаясь отвязаться, она зацепилась поводьями за горящую балку. Центурион одним ударом меча перерубил поводья, вскочил в седло и, крепко вцепившись в гриву, выскочил из обваливающейся конюшни, которую пожирало пламя.
Он в последний момент выбирался из этого пекла, а две оставшиеся внутри лошади издавали душераздирающие звуки. Сбруя, что была на них, загорелась, мгновенно превратив их в факелы. Ржа от ужаса, они вырвались из конюшни и помчались по улице, освещая ее горящей сбруей.
Сидя на своей лошади, Лонгин поймал за уздечку одно из вырвавшихся животных и потянул его за собой в переулок, где его должен был ждать Давид.
Дождется ли он меня? – спрашивал себя центурион.
Добравшись в условленное место, он увидел стоящего на коленях юношу с окровавленным телом Фарах на руках. Трибун спешился, привязал коней к столбу и подошел к нему.
– Давид… нужно уезжать, – пробормотал Лонгин, положив руку ему на плечо.
– Я без нее не поеду.
– Я тоже. Но хоронить ее здесь нельзя.
Давид поднял голову и пристально посмотрел на центуриона. По щекам у него катились слезы. Он был так потрясен, что был не в состоянии принять какое-либо решение, и просто смотрел, как его старший товарищ бережно берет на руки погибшую, словно любовник свою ненаглядную. Он уложил ее на свою лошадь, вскочил в седло, и казалось, что бездыханное тело Фарах прижалось к нему в холодном объятии.
Оставив позади Канафу, они остановились в пустыне, отделявшей их от Палестины. Деревьев здесь практически не было, но им удалось вырвать несколько кустов, срубить сухое дерево и соорудить что-то наподобие помоста из обрубков сучьев и веток. Они уложили тело Фарах ногами на восток, головой на запад в знак почитания египетских богов, в которых верили ее соплеменники.
Под черным, усеянным звездами небом они обложили тело своей подруги сухими ветками. Лонгин достал масло, смочил им два куска материи, намотал их на палки, поджег и протянул один из факелов Давиду. Остаток масла центурион вылил на ветки и на одежду умершей. Потом он повернулся к Давиду и кивком подозвал его.
Некоторое время они собирались с мыслями, глядя на то слабнущий, то разгорающийся огонь их факелов. Потом, мрачно посмотрев друг на друга, они, словно по команде, бросили их на ветки.
Масло загорелось мгновенно. Огонь расползался по дереву, перепрыгивая с ветки на листья, с коры на сучья. Вскоре жар стал невыносимым и им пришлось отойти на шаг. Пламя коснулось тела Фарах. Сначала загорелась ее одежда. Лонгин повернулся к Давиду и с удивлением отметил, что юноша испытывает чувство вины, это оно заставило его броситься к Фарах, чтобы просить у нее прощения. Как только он это сделал, трибун схватил его за плечи и прижал к земле.
– Пусти меня! Пусти! – всхлипывая, кричал юноша. – Это по моей вине ее не стало! Я же вам говорил, Бог не пощадит никого из тех, кого я люблю. Фарах умерла, потому что она следовала за мной, как тень!
– Нет, Давид! – утешал его Лонгин, не отпуская. – Фарах ни за кем не ходила, как тень. Она была свободной женщиной. Она жила и умерла так, как ей этого хотелось.
– Если бы я не раскрыл свой рот, – все еще всхлипывая, говорил юноша, – если бы я позволил этому нечестивцу и дальше богохульствовать…
– Эти «если» ничего не дают, Давид. Если бы… Фарах не захотела поесть горяченького, если бы… я отказался остановиться в этом трактире, если бы… твоя мать не поручила тебя мне, если бы… я не пришел к вам в Кумран, если бы… я не распял твоего отца…
Слушая эти слова, Давид перестал вырываться. Он смотрел на Лонгина, чуть приоткрыв рот, и взгляд его выражал признательность заклятому врагу, который в очередной раз удивил его.
– Вот видишь, Давид, – продолжил центурион, печально улыбаясь, – все эти «если» не дают того, чего хотелось бы.
Лонгин перестал удерживать Давида, но по-прежнему сидел возле него. Неотрывно глядя на пламя, он дал волю своему сердцу, как тогда в Кумране, и говорил то, что хотел.
– Слова… мало что могут сделать в такие горестные минуты, Давид. Но они могут напомнить нам… о шансе, который у нас был, шансе встретить на своем пути тех, кого мы полюбим, и столько всего пережить вместе с ними. Лучшее не бывает без худшего, Давид. И сегодня мы оба переживаем худшее. Фарах дает нам силу. Теперь она защищает нас. И нам нужно научиться принимать ее защиту, не замыкаться в себе, горюя. Дать ей место в скорби, как она нам его давала при жизни. Переживать все вместе с ней, как мы это делали раньше. Потому как ничто, Давид, даже смерть, не может разлучить любящие души.
Он поднялся и протянул руку другу, ожидая ответного жеста. Юноша некоторое время смотрел на протянутую руку, потом ухватился за нее и тоже поднялся. Римлянин и иудей повернулись к костру, на котором тело молодой египтянки уже превращалось в тысячи искорок, улетающих в небо, напоминая звездочки, которые только что зажглись.
Крепостная тюрьма, Дамаск, Сирия
От вонючей подстилки несло мочой и испражнениями. В камере не было ни тюфяка, ни туалета, единственное окошко выходило на канаву для стока нечистот. Оно наверняка было предназначено только для того, чтобы, благодаря слабому свету, попадавшему через него внутрь, заключенные могли видеть, насколько жалким было их положение: каменные стены, покрытые влагой, и решетка с такими толстыми прутьями, что через них могли пробиться лишь порывы ледяного и зловонного ветра.
Карцеры были выдолблены в самом низу крепости Дамаска. И близость реки Барада обусловила извилистость стен и ужасную влажность. Камеры были тесными, а потолки настолько низкими, что заключенные не могли распрямиться во весь рост. Поэтому, если Савлу хотелось перейти из одного угла в другой, он должен был это сделать на четвереньках, что при его больной левой руке было сродни подвигу.
Чтобы не падать духом, он поначалу убеждал себя в том, что его освободят на следующий день без права пребывания в Дамаске. В конце концов, он же сообщил, что является римским гражданином! Священники, без сомнения, хотели, чтобы он вкусил того, что его ожидает, если он и дальше будет подбивать людей против них. А может быть, они хотели промариновать его перед допросом с применением силы? Нет… Они бы не посмели. Он ведь чрезвычайный представитель Понтия Пилата, правителя…
Внезапно ход его мыслей прервался.
Он больше не был ни чрезвычайным представителем Пилата, ни даже начальником охраны Храма. Савл из Тарса – вот кто он такой. Да нет, когда он был слепым, Иешуа сделал его Павлом. Его прежняя жизнь исчезла, словно кожа, сброшенная при линьке, как и друзья, которые у него были до обращения. А вот что касается врагов, ему придется теперь побеждать их, одного за другим. Его путь к искуплению будет тернист.