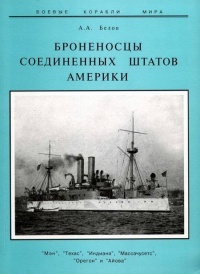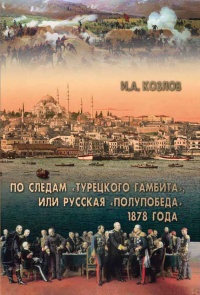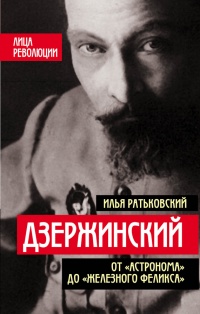Книга "Еврейское слово". Колонки - Анатолий Найман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сперва попробуем как можно короче объяснить, почему и какое искусство нужно спасать. Искусство, мертвеющее по мере появления. Искусство подделок. Искусство самовыражения, когда выражать нечего, а если есть, то что-то уже выраженное прежде. Искусство вымышленное, заменяющее одну пустоту другой. Короче говоря, искусство – которое, мы все знаем, что было, и точно так же знаем, что в отрезок времени, выпавший на наши дни, его нет.
Почему гомосексуалисты и евреи, объяснил Варликовский. Почему они смотрят на все как бы со стороны, тоже более или менее понятно. Я вырос в семье достаточно ассимилированной, и я довольно рано начал писать стихи, то есть находился внутри русской культуры и, что гораздо существенней, внутри русского языка. Язык, как ничто другое, лепит тебя в целом и отделывает в подробностях. Я жил в России, мои близкие друзья, все, кого я ощущал и сознавал как свое окружение, более непосредственное и сколь угодно отдаленное, были русскими, независимо от крови, которая в них текла. Дальше вариант вопроса о яйце и курице. Кто первый: действительность стала выгонять меня в нерусские, или во мне жило нечто тайное, выталкивающее куда-то, откуда я мог смотреть на действительность остраненно. Точнее, и остраненно. Моя причастность тому, что происходит в стране, участие и ответственность за это никуда не девались. Полагаю, такой ход вещей знаком не мне одному. И сейчас, уже в конце жизни, меня трудно убедить, что в ком-то из моих сограждан больше русскости, чем во мне, или что меньше. Я не пускаюсь в сердечные признания на гражданско-национальную тему – примерно так же, как не рву на себе рубаху, когда утверждаю, что я Найман. Ну а сверх того, у меня, не скрываю, есть этот самый волей-неволей выработавшийся взгляд со стороны.
Подобным образом выделены в особую, на взгляд русских, группу кавказцы, цыгане, корейцы, татары и так далее: все, кто назначены были быть таковыми – впрочем, как и на их взгляд русские. Случилось это после эксперимента с башней в Вавилоне – и, наблюдая нынешнюю глобализацию, можно только восхищаться тогдашним провидческим разделением. Подобным образом выделены оказались интеллигенты. Вегетарианцы. Буддисты. И, конечно, гомосексуалисты.
Повторю: возможно, в евреях сидит что-то этакое, не существующее у других. Возможно, их «взгляд со стороны» – черта национального характера и ею объясняется, например, что интересуются они только тем, чем интересуются, знают только то, что знают, а ко всему остальному подходят, как афиняне при встрече с Павлом: «Об этом послушаем в другой раз». Даже Бог, чье особое внимание к себе они так ценят и не упускают продемонстрировать, может под их остраненным взглядом попасть в анекдот. О еврее, сидящем в наводнение на крыше и отказывающемся пересесть в лодку, потому что «Бог спасет». О телефонном тарифе в Израиле, где звонок Богу – самый дешевый, потому что «местный». Из самых последних – о Шимоне Пересе, приглашающем Мубарака на Песах отпраздновать исход из Египта.
Вернемся к Варликовскому. Его знаменитая постановка называется «А(поллония)» по имени главной героини. Женщины – и страны, Полонии, Польши. И та, и другая, как могли, пытались помочь во время Холокоста евреям. Спектакль идет пять часов, и сама эта продолжительность указывает на то, что едва ли мы увидим на сцене традиционную расстановку сил и традиционных типажей: жертв, спасителей, рискующих жизнью, предателей, негодяев. Наряду с персонажами современных авторов на тему Катастрофы участвуют в действии герои античных трагедий Эсхила и Еврипида, отношения тех и других соединены в коллаж режиссером и сценаристом. Аполлония, беременная четвертым ребенком, погибает в мясорубке Варшавского гетто, также и двое ее детей. Казалось бы, вот она, самоотверженность Польши: спустя десятилетия на церемонии в Иерусалиме спасенная ею Ривка перечисляет своих детей и внуков. Но сын Аполлонии, единственный выживший, получая медаль за подвиг матери, называет ее тупой сентиментальной – он произносит грубое непристойное слово, – отдавшей, говорит он, «свою жизнь и жизнь моих братьев и сестер за каких-то чужаков, вместо того чтобы дать мне, что должно было принадлежать только мне».
Опять-таки остерегитесь реагировать на это напрашивающимся образом – трактовать Варликовского как кощунственного ревизиониста еврейской трагедии. Для него случившееся именно трагедия. Однако в трагедии может оказаться жертв гораздо больше, чем на первый взгляд, – и не сразу очевидных. Музей Яд-Вашем несравнимо меньше реальности, которую он отображает. Памятники жертвам – статуи, мы можем обозреть их, вместить в сознание: ни самих жертв, ни их число не можем. Так что, если угодно, да, «А(поллония)» это пересмотр – но не несчастья, а величины несчастья. Эта величина всегда больше той, которая предстает человеку, ужаснувшемуся ошеломительным потерям. И глубину каждой из утрат не распознать поначалу.
Жизнь личная, то есть тем или другим боком интересующая человека, делится на периоды естественные: возрастные, семейные, карьерные и т. п. – и искусственные, официальные, когда то, чем индивидуум занимается, предложено или даже навязано ему извне: государством, обществом, окружением. О первых написаны горы книг, художественных, философских, научных, некоторые из них замечательные шедевры. Вторые направляются по историческому ведомству и здесь трактуются идеологией, как правило на выгоду начальства. Ибо «всё – пропаганда, весь мир – пропаганда!» – как писал поэт Борис Слуцкий.
В середине апреля у нас отмечалось 50-летие первого запуска человека в космос. Показывали по телевизору документальные фильмы. Как Гагарин рапортует Хрущеву о выполненном задании партии и правительства, о готовности выполнить следующее. Как Хрущев целует Гагарина, много раз, не может оторваться. Гагарин Хрущева тоже, но видно, насколько этот момент важнее для генсека – в каком он восторге. Сегодняшний текст, сопровождающий кадры старых кинохроник, рассказывает, какие были трудности, ловушки, непредсказуемость, туман, смертельный риск. Взлетит ли? Сядет ли? Все совершалось в первый раз, космонавту не позволялось двигаться, что-то заклинивало, где-то сифонило. Корытце, в котором он лежал, помещалось в крохотной кабине, едва превышавшей габариты тела. Над ней нависало великанское туловище ракеты, ее трясло, водило в разные стороны, из нее с ревом и слепящим блеском вырывалось страшное пламя. Гораздо больше было похоже на взрыв, чем на взлет. Все вместе выглядело как запуск не в космос, а на тот свет.
Что такое космос, никто не знал. Свидетельствую об этом, как участник и наблюдатель происходившего. Абсолютно пассивный участник и сравнительно безразличный наблюдатель. Кроме группы непосредственных исполнителей, все тогда были такие. Космос значил черное небо со звездами, космос значил безумные мысли о пространстве, которому нет конца, – все это заключалось в поэтическом слове, коротком и красивом. Древние греки знали о нем больше нас. Запуск первого спутника, шара диаметром полметра, чувств не задел, возбуждало разве что массовое ликование – которого сами ликующие объяснить разумно не умели. Чем замечателен полет собачек, невернувшихся и вернувшихся, тоже внушали СМИ. Гагарин произвел впечатление – хотя и тут людей с техническим образованием, к каковым принадлежал, в частности, я, смущало, что авиаполет на высоту 30 километров считается стратосферным, а ракетой на 150 – космическим. Терешкова не произвела никакого, Леонов за бортом аппарата, со шлангом, обвивающим его как Лаокоона, да, произвел. Гибель Комарова отозвалась непритворным сочувствием.