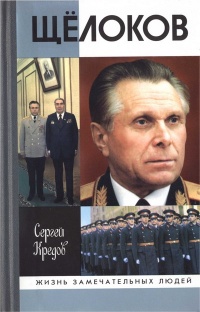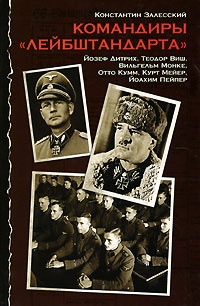Книга Виденное наяву - Семен Лунгин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Черт его знает, наверно, нет.
– Ну и как?
– Пусть стоит наверху и смотрит.
– Бессмысленно.
– Угу…
– А он с ней вместе стоит?
– Костя? Может стоять. А мальчик с профилем Гоголя где?
– Не знаю.
И вдруг нам как-то исподволь стало ясно, что и Костя, и бабушка, и мальчик с профилем Гоголя должны совершить нечто невероятное, ведь в них на протяжении сюжета накопился такой заряд энергии, что бытовой развязкой тут не отделаешься… А пусть они пойдут по воде как по суху… А пусть они разбегутся и перемахнут через речку на остров… А пусть они взмоют в небо и полетят… А пусть… Казалось, что нам лезет в голову какая-то чепуха, но она настойчиво лезла, и, что самое удивительное, нам не было стыдно друг перед другом, как обычно бывало, если кто-нибудь сморозит глупость. Эти настойчивые удары в мозг каких-то идей, наверно, подобны ударам младенца, томящегося в утробе матери, – счастливое свидетельство того, что твое будущее кричит тебе таким способом: «Я тут! Я тут!!» И будущее нашего сценария тоже кричало нам: «Мы готовы прыгать! Мы готовы летать, ходить по воде!.. Единственно, чего мы не хотим, так это стоять на высоком берегу и глядеть на муравьиное шевеление финального общего плана!» Ну, раз они так хотят, решили мы, то уж пусть летают! В этом как-то больше жизненного восторга, чем в хождении по воде аки по суху. Пусть прыгнут и полетят, пусть хорошо разбегутся и полетят как птицы! И пусть сядут на острове, как птицы…
Мы снова расчехлили машинку и написали конец, какой потребовали наши герои. И потребовали решительно!
«Костя с бабушкой стояли на высоком берегу…». За этим следовала какая-то анемичная фраза: «Он радостно наблюдал за купающимися». Было ясно, что ни Костя, ни бабушка не довольны нами. Ну и что дальше? – тормошили они нас. А вот что! И мы написали следующую фразу: «И вдруг взгляд его стал мечтательно рассеян». Это уже теплее, подумала наша бабушка. А Костя промолчал. Но тут начали вдруг происходить чудеса.
«А горнист заиграл сигнал. Очень веселый сигнал. И все стали прыгать через реку…». Стиль правильный, подумал Костя Иночкин, чем прозаичнее, тем правильнее. И нам так кажется, сказали мы. «А по ней буксир тащил баржу, но это никому не мешало. Сигали так, что любо-дорого было смотреть. Как птицы летели. И старые, и малые, и вожатые, и родители, и даже сам товарищ Митрофанов. А красивей всех летела – знаете кто? – Костина бабушка. Когда она коснулась ногами земли, к ней подошел скучающий парень с профилем Гоголя.
– Чего это вы делаете? – спросил он.
– Мы прыгаем через реку, мальчик, – ответила бабушка, разбежалась и прыгнула снова.
– А-а, – обрадованно сказал парень, разбежался и тоже полетел над рекой».
Вот так уже похоже на дело, дали нам понять и Костя, и бабушка, и парень с профилем Гоголя. Но мы еще неслись на всех парах дальше:
«А горнист все трубил. И раструб его трубы так сверкал в лучах солнца, что хотелось зажмуриться». Вот тут уж сам бог велел поставить точку, и мы ее поставили. И я снова нарисовал виньетку на удачу…
А когда мы прочитали сценарий режиссеру Элему Климову, стало ясно, что виньетка помогла.
Заканчивая эту главку, мне хочется тем не менее еще раз повторить, что поэпизодный план, как и план сражения, разработанный на военных картах, остается основой как стратегии, так часто и тактики ведения боя. И чтобы убедить скептиков и тех, кто, надеясь на свою память, ленится составлять поэпизодный план, я сошлюсь, как это не покажется нелепым, на А. С. Пушкина, на его замечание по поводу «Божественной комедии»: «…единый план “Ада” есть уже плод высокого гения». А уж если обращаться к авторитетам, то можно еще привести и слова Расина, который сказал: «Моя трагедия уже готова, осталось только написать ее», – которые Ренэ Клер пояснил таким образом: «Это значило, что в тот момент великому автору трагедий оставалось написать только стихи своей трагедии, а план ее был полностью подготовлен».
Из этого не следует, конечно, что я равняю сценаристов с Данте или Расином, а наши сочинения с «Божественной комедией» или с «Федрой». Но мне просто хотелось бы этой, быть может, несуразной ссылкой вбить в головы пишущим сценарии, что прежде чем браться за перо, все-таки следует составить поэпизодный план.
В одной древней, весьма поэтичной книге сказано, что «вначале было Слово…».
Словами излагают мысли. Словами скрывают их. Словами ссорятся. Словами мирятся. Словами выражают любовь, преданность, словами проклинают, ненавидят. Словом окрыляют, зачаровывают, желают зла, колдуют, ворожат. Возвеличивают и ввергают в ничтожество… Словом (да простится мне этот каламбур), как сказал Н. Гумилев в стихотворении «Слово»:
Станиславский утверждал, что слово – действие, не менее эффективное, чем действие физическое, а подчас и более. Словом убивают. «Слово не обух, а от него люди гибнут», – сказано в одной из пословиц.
«– Ступайте прочь, вы человек опасный, – говорит дона Анна дону Гуану.
– Опасный? Чем?
– Я слушать вас боюсь…»
Слово слава связано со словом слово чередованием гласных. Прославить или бесславие имеют со словом одно происхождение. Восславить равнозначно водрузить на пьедестал. Обесславить подчас не меньше, чем обезглавить.
«Язык телу якорь. Язык с Богом беседует» – этой пословицей открывает Даль раздел «Язык – Речь» в сборнике «Пословицы русского народа».
«Язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли», – говаривал один из великих дипломатов.
Вот вам и амплитуда действенных возможностей слова.
Диалог – это разговор двух и более людей. Обмен словесными выражениями мыслей, чувств, страстей… Диалог – это когда один высказывает некую идею, а другой ее оспоривает. Когда один хочет узнать, а другой скрывает, когда один кричит, а другой заставляет его утихнуть доводом, грубостью, мольбой. Диалог – это поединок правды с кривдой, один из способов выражения конфликта, один из путей познания истины.
Однако природа диалога в театре и в кино не только различна, но, можно сказать, полярна. Оно и понятно. Ведь в пьесе реплики, произносимые действующими лицами, – единственное средство для выражения и драматической истории, и динамики сюжета. В пьесе диалог определяет не только эмоциональное состояние действующих лиц, но и тональность всего произведения в целом. В кинематографе же диалог – лишь одно из художественных средств киноязыка, и к нему должны прибегать тогда, когда все другие звуковые и зрительные средства бессильны или недостаточны. Ведь театральная драматургия – диалогическая, чисто диалогическая литература по сути своей противостоит кинодраматургии, больше тяготеющей к прозе. Именно потому, что пьеса рассчитана, как мы уже говорили, на многократность исполнения, на разнообразие трактовок, на сопротивление ходу времени и смене поколений, именно потому, что в ней скрыт потенциальный замах если не на бессмертие, то уж, во всяком случае, на «долгожительство», ее язык естественно тяготеет к многозначности и определенной афористичности. Реплика в театре производит тем большее впечатление, чем больше содержательной, поэтической и эмоциональной нагрузки она в себе таит. Она стремится не к воспроизведению бытовой речи – зал и не ждет этого, – но к некоему языковому концентрату, перенасыщенному раствору, в котором разного рода крылатые фразы, глядишь, да и выпадут в осадок. В театральной реплике важна не столько ее узнаваемость, сколько образная и смысловая емкость, так как условность театрального представления предопределяет известную условность сценического языка. Его возвышенность, сочиненность, «художественность» суть театральная норма.