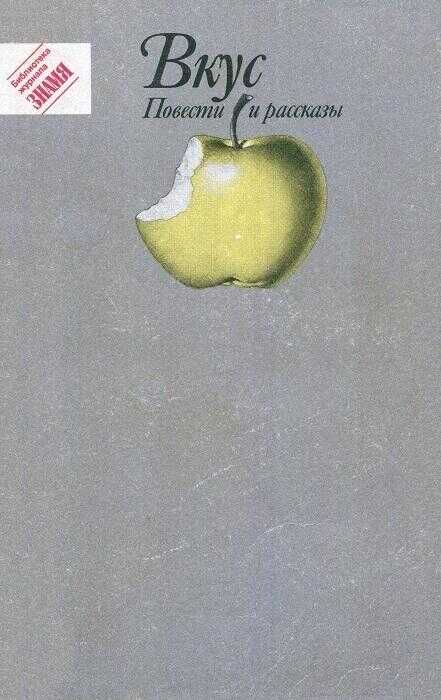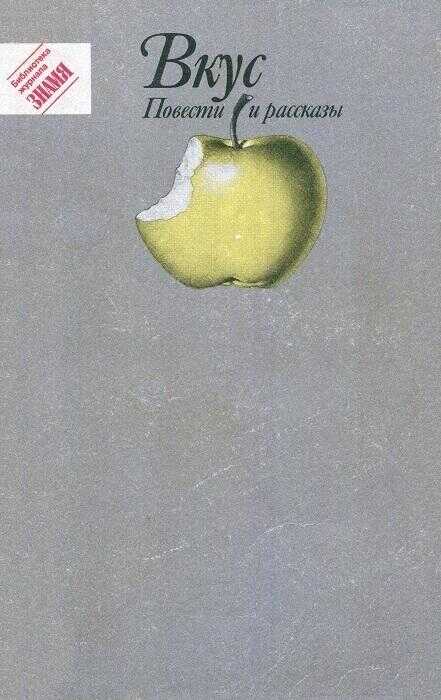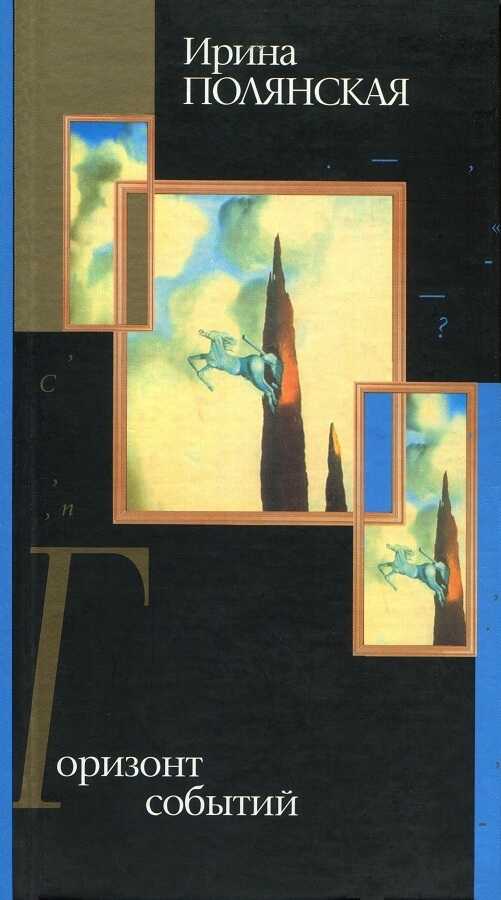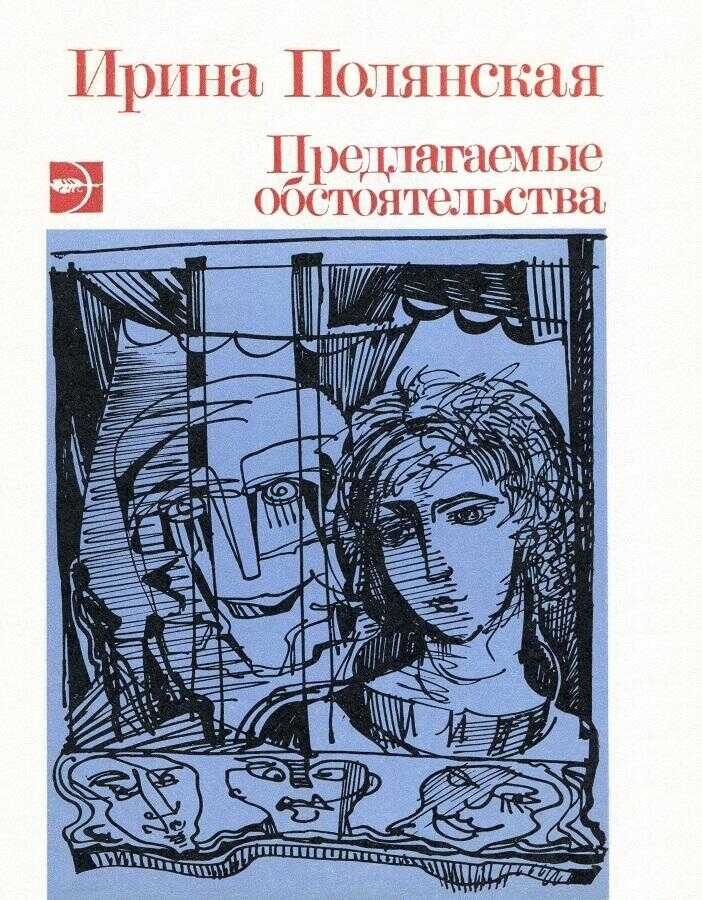Книга Прохождение тени - Ирина Николаевна Полянская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В Москве мне предстояло выполнить одно важное поручение. После окончания сессии за день до отъезда Регина Альбертовна вручила мне запечатанный пакет из плотной серой бумаги, надписав на нем фамилию человека, которому предназначалась посылка. Я должна была встретиться с ним и отдать пакет. Я знала, что находилось в этом пакете. Две магнитофонные катушки с записанными на пленку фортепианными сочинениями Коста, ощутившего в себе дар композиции и мечтавшего теперь о встрече с этим загадочным человеком — жителем Москвы, бывшим однокурсником Регины по Гнесинскому училищу, а ныне современным авангардным композитором. В отличие от Регины Альбертовны, училище он не закончил, в свое время пострадав в ходе каких-то бурных революционных событий на факультете, после которых был отчислен с их третьего, что ли, курса — за неисправимый формализм, задолженность по политтеоретическим дисциплинам и вызывающую несдержанность в объяснениях с ректоратом. Он был дружен с Региной, слал ей письма на Кавказ, куда она уехала преподавать после того, как решила, что исполнителя из нее не выйдет, и даже заезжал к ней иногда в гости по дороге в свой любимый Дилижан, всегда даривший его приливами осеннего вдохновения.
...Я набрала номер телефона. Трубку долго не брали, потом я услышала резкий недовольный голос:
— Вас внимательно слушают.
— Простите, что обеспокоила вас, — заговорила я. — Я в Москве проездом, через несколько дней уезжаю домой, у меня для вас пакет от моей учительницы музыки Регины Альбертовны...
— Да, Регина написала мне. Речь, кажется, идет о сочинениях одного молодого композитора — очередного местного гения, раскопанного Региной во глубине кавказских руд?.. Неугомонная женщина. Этот парень, как я понял, болен? Он что — прикован к постели, полностью парализован? Почему он перекладывает на женщин свои творческие дела?
— Он слепой. Но очень талантливый и умный человек.
— Хм. Час от часу не легче. Как же он ноты-то записывает и читает? Ах, ну да — по Брайлю. Надеюсь, что это не песни под гитару. Предупреждаю, что эстрады для меня не существует. Ладно, давайте вот как с вами договоримся. Вы оставьте, пожалуйста, свой пакет в моем почтовом ящике, а через два дня попробуйте мне перезвонить. К этому времени, я надеюсь, уже смогу вам что-то сказать. Адрес мой вы знаете?..
Адрес я знала.
Не сразу я заметила, что слепые мои товарищи боятся грозы.
Впервые я увидела здешнюю грозу из окна их комнаты. Задолго до ее начала мы перестали разговаривать; первой умолкла я, а затем затихли и они. Мы чувствовали, что в воздухе идет буйное созревание катастрофы. Мертвенный зеленоватый свет сгущался в небе, и вот настала невыносимая, отчетливая, прозрачная тишина, какая бывает в театре, когда дирижер уже поднял палочку, но музыка еще не грянула. Тишина царила за моей спиною, будто и слепые тоже затаили дыхание. Им, должно быть, казалось, что тьма, окутавшая их с рождения, — недостаточная защита перед лицом еще большей тьмы, и вот — затаились в ее предчувствии. И тут зазвучали голоса титанов, разрывающих небесные тела, как сырое мясо, и сокрушающих душу ни на что не похожей музыкой... На небе поминутно происходили страшные, картинные обвалы облаков. Ветер, как бунтовщик, размахивал стягами волокнистых полотнищ, озаренных снизу лучами заходящего солнца, голубое небо ломилось сквозь тучи, разрываемые в клочья и тут же сраставшиеся, как будто души, растворенные в нем, с безумной силой рвались обратно на землю. Величественному действу этой грозы гораздо больше подходила равнинная местность, здесь, в этом пространстве, сокрушенном горами, грозе было тесно, не для того она копила свою графитовую мглу и собирала в нее влагу, чтобы удариться с размаху в крохотное донце города. Здесь драма грозы начиналась сразу с четвертого акта и завершалась гибелью невидимых героев-титанов, после чего в мире наступала такая тишина, как будто заодно с ними погибали и зрители.
Наша комната вздрагивала в исступленном свете молний. Слепые сидели по углам, закутавшись в одеяла, как истуканы с белыми лицами и остановившимися белыми глазами, будто молния лишь секунду назад испепелила их зрение, а гром, раскалывающий небесные тела, стремился теперь отнять последнее, что у них осталось, — их абсолютный слух... Я закрыла окно, отодвинув яростный шум дождя, и никогда больше не оставляла их одних в майские и июньские вечера, когда сгущался озон и деревья начинали так шелестеть листьями, точно силились заговорить человеческими голосами.
* * *
Наутро после грозы Коста пришел к нам, чтобы рассказать сон, увиденный им нынешней ночью.
Его слова повергли меня в замешательство. Слепые видят, подумалось мне; парадокс, заключенный в этой фразе, вовлек мою мысль в воронку метафор, доступных личному опыту, и слова, которыми они были обозначены, рвали смысл в клочья. Сначала моя мысль, как намагниченная, вращалась на поверхности аналогий: «глухие слышат», «парализованные двигаются», «предметы ведут беседу», — затем соскользнула глубже: «мертвые живут» и «живые мертвы», — после чего вступила в эпицентр алогизма «я — не я», и, когда я на секунду ощутила, что «я — не я», сознание померкло, как меркнет, наверное, помраченное песней око соловья...
Между тем Коста счел мое молчание за приглашение к рассказу и заговорил, возвращая мою фантазию в обычные пределы. «Видел» для него, как и следовало ожидать, означало «слышал».
— Представь себе, — молвил он, — мне