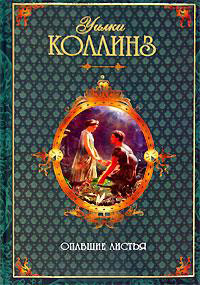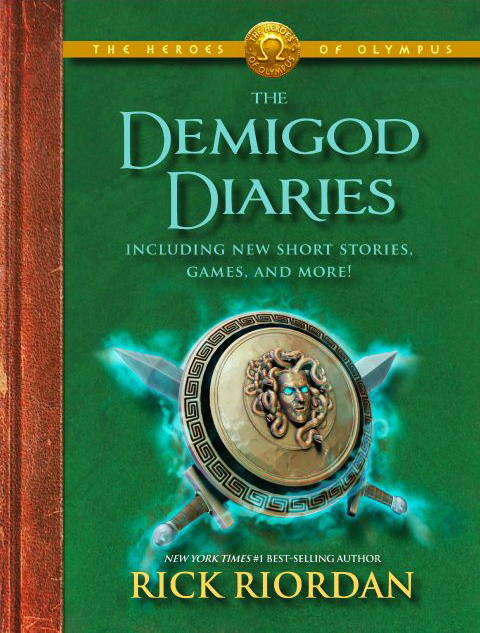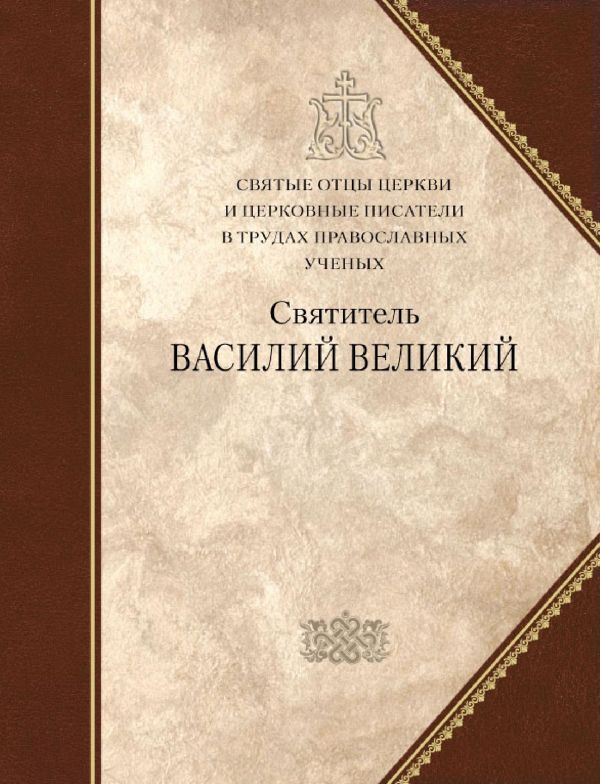Книга Опавшие листья - Василий Васильевич Розанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Я на зубоврачебных курсах. – Нет, замужняя. – Буду зарабатывать сама хлеб. – По окончании гимназии я поехала в Златоуст, и вышла замуж за офицера. – Молодого. – Оказалось, пьет ужасно. Но не от этого я ушла, а он говорил мне: «что ты просишь у меня все на хозяйство (денег), я же тебя оставляю глаз на глаз с товарищами, у которых есть средства, и ты всегда можешь быть при деньгах». – Ну, этого я не могла вынести. И ушла.
Тогда мне объяснилось и «предложение» на условиях свободы. Но просящее – «будь моей женой, около меня».
Конечно, бедняк последний «рвал бы волосы на голове» при мысли об измене. И тут дело вовсе не в том, чтобы «были карманные деньги». Деньги скорее – предлог, оправдание и «введение»… «Все как будто у всех». Но тонкая личная струя здесь вводит в понимание архаичнейшей формы семьи – полиандрии, которая основана главным образом не на инстинкте женщин, а на странном вкусе мужей к «червяку» и «жабе».
Мне один извозчик (ехал в редакцию, к ночи) сказал о своей деревне (Новгородской губернии), – на слова, будто «деревенские девушки или женщины легко отдаются рубля за три» (слова мне А. С. Суворина, о поре своей молодости).
– Зачем девушки. Замужние. У нас на деревне всякая за три рубля (отдастся). Да хоть мою жену захочет кто взять.
Я даже испугался. Так просто. Он был красавец, с небольшими усиками, тонкий. Молодой. Лет двадцати семи.
И не поперхнулся. Ни боли, ни стыда. И значит – никакой ревности.
* * *
Кстати, принципиальный вопрос Флоренскому, священникам и профессорам церковного права: должен ли быть расторгнут, т. е. должна ли церковь расторгнуть брак в случае «зубодерки», т. е. когда муж просит жену отдаваться, а она, чувствуя отвращение к таким отношениям и гнусность ко всему этому типу семьи, нося в сердце идеал лучшей семьи – просит церковь освободить ее от неудачно заключенного брака и дать разрешение на вступление в новый?
Есть ли это «прелюбодеяние»? Пока – нет. Т. е. церковь, «комментируемая и изъясняемая духовенством», единственным судиею сего «своего дела», – признает таковой брак расторжению не подлежащим. «Ни свидетелей», «ни жалобы мужа», «ни – измены мужа». Жена не может сказать: «муж мне изменяет», да он и не изменяет. А она? Да и она может не изменять. Какой же повод к разводу, формальный? И церковь сохраняет и приказывает сохранять такой чудовищный брак, около которого случайное «прелюбодеяние» мужа или жены, «прелюбодеяние» по налетевшей буре любви, кажется чем-то невинным и детским.
От кого же, господа духовные, идет развал семьи, от вас или от «непослушных жен», как вы традиционно и лениво жалуетесь? От вас, по-моему, по факту. И кто оскорбляет таинство брака? Ваш грязный взгляд на дело, ваши грязнящие брак законы. С «червем» и «жабою».
Да: на том свете дадут вам покушать за отношение к семье и к семейным людям «червяка» и «жабы».
К разговору с извозчиком:
Толстой (такой ревнивый вообще и поощряющий ревность) гениально подметил это спокойствие крестьян к началу полиандрии:
– Дурак. Я сапогов не захватил.
Любовник прыснул от жены: и муж только жалел, зачем, «вспугнув» их с места, он не догадался предварительно взять сапоги его, тут же стоявшие.
Муж вернулся после отлучки. Узнав про любовь жены, он побил ее и все, что следует, и не лег с нею спать, а полез нá печь. Жена среди ночи встала и пришла к нему. Он еще был сердит, и не хотел пускать. Но она облила его такими нежными словами. У Толстого это удивительно. Муж взял ее. И он все забыл; и она все забыла. Это и есть «полиандрия» в древности и сейчас.
* * *
Я смотрел на Леву с такою завистью к его росту, к его красивости, к его достоинству.
Он был III-го класса, и я не знал, могу ли к нему подойти поздороваться потом (когда всенощная кончится).
Я был I-го или II-го класса, карапузик. Он обыкновенно ходил с толстой палкой (самодельщина) и мог меня побить, мог всех побить.
Слушал пенье (в арке между теплой и холодной церковью). Красиво все. Рассеянность. И будто потянуло что-то.
Я обернулся.
За спиной, шага на 1½, стояла мамаша и улыбнулась мне. Это была единственная улыбка за всю ее жизнь, которую я видел.
* * *
Пересматриваю академическое издание Лермонтова. Хотел отыскать комментарии к «Сашке». Не нашел (какая-то лапша издание). «Может, в I т.»? Ищу и вижу на корешке IV, II, V, III. «Где же первый? Не затерялся ли» С тревогой ищу I. Вижу только 4 книги. «Затерялся». Еще тревожнее, и вижу, что я аккуратнейше и внимательно надписал на «бумажке обертки»: «Выпуск второй», «выпуск третий», «четвертый» и «пятый» под печатным: «Том первый», «второй», «третий», «четвертый». Каким образом я, внимательно надписывая (радость о покупке) нумерацию томов, мог не заметить, что подписываю неверно под тут же (на обложке!) напечатанными «первый», «второй», «третий»? Значит, я рассматривал и не видел. Это сомнамбулизм, сон. И в первый раз прошло извинение о болезни мамы, которое мучило все лето: «что же мне делать, если я ничего не вижу», «родился так», «таким уродом». Это фатум бедной мамочки, что она пошла за Фауста, а не за коллежского асессора. Это все-таки грех и несчастье, но – роковое.
Сколько, сидя над морем, на высокой горе, я с бумажкой в руке высчитывал процентные бумаги. Было не тó 16, не то 18 тыс., и обеспечения детей не выходило. Я перестраивал их так и иначе: «продать» одни и «купить» другие. Это был год, когда она была так мрачна, печальна и раздражительна. Я мучился. Зачем же я просиживал? Если бы я так же вдумался в состояние души ее, т. е. вдруг затревожился, отчего она тревожна, – я бы разыскал, так же бы стал искать, думать, так же бороться душою с чем-то неопределенно дурным, и попал бы на след, и, в конце концов, вовремя разыскал бы и позвал Карпинского. И она была бы спасена.
Тó, что я провозился с деньгами, нумизматикой и сочинениями вместо здоровья мамы, и есть причина, что пишу «Уединенное». Ошибка всей жизни.
Так мы каркаем бессильно, пройдя ложный путь.
* * *
Нет, чувствую я, предвижу, – что, не пристав здесь, не пристану – и туда. Что же Новоселов, издав столько, сказал ли хоть одно слово, одну строку, одну страницу (обобщим так, без подчеркивания), – на мои мучительные темы, на меня мучающие темы. Неужто же (стыдно, мучительно сказать) им нужны были строки мои, а не нужна душа моя, ну – душа последнего нищего, отнюдь не «писателя» (черт бы его побрал). Поверить ли, что ему, Кожевникову, Щербову не нужна душа. Фл-ский промолчит, чувствую, что промолчит. «Неловко», да «и зачем расстраивать согласие», – в сущности «хорошую компанию». N-в о своей только сказал: «Царство ей небесное, ей там лучше» (в письме ко мне). А о папаше как заботился, чтобы не «там было лучше», а и «здесь хорошо». Но – жонкам христианским вообще «там бы лучше», а камилавки и прочее – «нам останутся» и «износим здесь», или – «покрасуемся здесь»… Что же это в конце концов за ужасы, среди которых я живу, ужаснее которых не будет и светопреставление. Ибо это – друзья, близкие, самые лучшие встреченные люди, и если не у «которых – тепло», то где же еще-то тепло? И вот пришел, к ним пришел – и… пожалуй, «тепло», но в эту специальную сторону тоже холодно и у них. А между тем особенность судьбы моей привела искать и стучаться, стучаться и искать – тепла специально в этой области. Что же Фл<орен>ский написал о N: «кнут» и «нужно промолчать». Какое же это решение?
Неужели же не только судьба, но и Бог мне говорит: «Выйди, выйди, тебе и тут места нет?» Где же «место?» Неужели я без «места» в мире? Между тем, несмотря на слабости и дурное, я чувствую – никакого «каинства» во мне, никакого «демонства», я – самый обыкновенный человек, простой человек, я чувствую – что хороший человек.
Умереть без «места», жить без «места»: нет, главное – все это без малейшего желания борьбы.
* * *
– Ребенок плачет. Да встань же ты. Ведь рядом и не спишь.
– Если плачет, то чтó же я? Он и на руках будет плакать. Пожалуй, подержу.