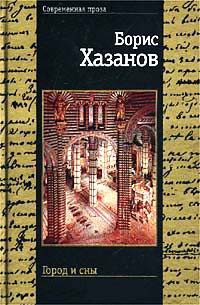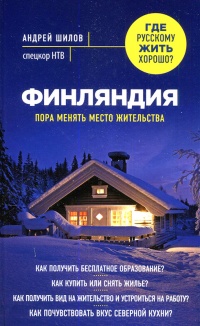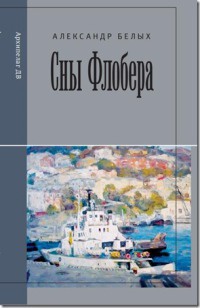Книга Хатшепсут - Наталья Галкина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ты совсем ошалел, — сказала она. — А где же сотрудница? Или ты еще не в той командировке? Ты пока что в местной?
— Катя, — сказал я, — ты упадешь. Отойди оттуда. За каким чертом тебе понадобилось лезть на крышу, да еще в туфлях на таких каблучищах?
— Сотруднице указания давай, — сказала Катя.
Я направился к ней — и она растаяла в воздухе, в летнем прогретом мареве, дрожащем и неверном. Только пара туфель осталась стоять у желоба. Белые туфельки на крыше замка. Вполне реалистическая обувь.
Очевидно, в отделе мое отсутствие уже заметили. И мне надлежало вернуться. Я решил рискнуть. Долго выбирал я момент, когда двор опустеет, — и выбрал. Вахтер отправился встречать въезжающий в замок грузовик, а я полетел с крыши. На сей раз не «свечкой» и не руки распластав, как дома, а… как бы сказать поточнее? ну, вроде как дети с катальной горки, дети без санок, съезжающие на попках с победным визгом. Я съехал по невидимому горбу воздушной горки в отличие от детей молча. И вполне вовремя: двери разных входов в замок распахнулись, из них выходили, грузовик въехал в ворота, за ним автобус, вахтер поплыл в дежурку, а я направил стопы свои в свой отдел. Который оказался на ремонте. Ни одного сослуживца. Ни одного стола. То же — с кульманами. Меланхолические женщины в сером, повязав лица платками по глаза наподобие налетчиков, стоя на неструганых досках, размывали потолок. Тихий человек в треуголке из газеты «Смена» красил входную дверь в канареечный цвет. К концу рабочего дня я нашел сотрудников в подвале, где они проводили профсоюзное собрание, сидя на столах, сдвинутых в гигантский общий стол. Поскольку свет в подвале еще не подключили, собрание проходило при свечах. Студенты-практиканты в уголке тихо бренчали на гитаре. По столу прошла босая Катя, обняла меня за шею и спросила:
— Зачем туфли мои на крыше оставил, наученный работник?
— Екатерина, — сказал я, — ведь тут кроме нас люди есть. Как ты себя ведешь?
— Сотруднице нотации читай, — сказала Катя и исчезла. Когда настал момент покинуть помещение и отступать к дому, во дворе замка то ли съемка началась, то ли шоу репетировалось… горели среди белого вечера ослепительные прожекторы, по тротуару стлался дым эстрадных дымовух, гремела адская музыка с программным управлением и спонтанными пассажами импровизаций, плясали двухметроворостые танцоры обоего пола (с полом у танцоров, по обыкновению, дело обстояло неважно) в блестках, серебре, злате, позументах и прочей сбруе, сверкающие белозубыми ухмылками и загорелыми животами, вертелись вертушки фейерверка, рассыпали искры шутихи. Пройдя сквозь строй голографических кукол этого тошнотворного великолепия, я очутился перед бронзовым кентавром при входе. За спиной моей возвышалась наша научная цитадель.
И снова нечто возникло в воздухе. Пчелы? Насекомых резвых стая. Приближающийся звон. Зависло надо мною. Звук оборвался. И тут охватила меня такая горечь, такое распоследнее безвыходное одиночество и неприкаянность, что поплелся я, руки в карманы, куда глаза глядят, забыв обо всем и обо всех на свете и о самом себе тоже. Никто не мог разделить со мной происходящее, словно я рождался или умирал, то есть совершал нечто абсолютно единственное, и единоличное, и субъективное перед лицом Природы, спинозовского Бога. Я был нем, и никакие слова и понятия не возникали со дна оглушенного существа моего, ибо для этого понятий и слов не существовало, они остались там, извне, мертвой оболочкой образуя кокон, внутри которого трепетала страшная сверкающая бабочка, готовая застить мне свет. Мир проносился сквозь меня, я проходил сквозь него, мы рассекали друг друга по сердцевине, друг друга не замечая и не ощущая соприкосновения, как не чувствует в первое время боли человек, полоснувший по руке обоюдоострой бритвой. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус — все отсутствовало в сем антимире, где разве что Всевидящее Око или Всеслышащее Ухо могли уловить какие-нибудь волны; океан объял меня до души моей, объяли воды, и в этом объятье смыло и обиду, и горечь, и одиночество — смыло все.
Я стоял на перекрестке неведомых мне улиц, стирая со скул слезы. Слегка сводило лицо и пальцы. Звон в ушах угасал. Наважденье рассеялось. Чувствуя сердечные перебои, боль в затылке и сухость во рту, я двинулся далее, как заводной, нашаривая по карманам спасительные сигареты. Я достоверно знал — чтó это было.
Хотя от этого знания и отмахивался, как от мухи назойливой. Ночной мой гость. Товарищ по несчастью. Спутник мой по землетрясению. С ним произошло то, что только что отпустило меня, что принял я, подобно радару.
Вяло и лениво стал я читать название улицы на доме. «Галерная» — гласила надпись. «Однако», — подумал я. Галерную эту переименовали более полувека назад. Я шел и шел, проходил под арками (возможно, трижды под одной и той же размашистой золотистой аркой), пересекал площади — или одну площадь? — претерпевал бури тополиной пыли в краю каналов и рек, минуя двери и подворотни. Рыжая крыса неспешно перешла передо мною дорогу, лениво волоча хвост. Черной кошке торопливо перешел дорогу я сам. Острая боль в голени остановила меня. Я не мог и шагу ступить. Дух захватывало. Я сел на ступени некогда существовавшего крыльца перед рыжею закрытою дверью. Наглухо и навечно запертой. Боль не затихала. Встать исключалось. Прохожие почему-то блистательно отсутствовали. Хотя дом был полон людей, приоткрывших окна, и я слушал их телевизоры и приемники, звон их посуды, журчание их сантехнической арматуры, истерические ноты их ссор и слова песен. Театр на слух.
Плеск воды на канале, на берегу которого стоял дом с крыльцом и запертой дверью. Скрип уключин, мерный и медлительный. Удар деревянного борта лодки о гранит. Звон цепи.
От спуска к воде переходила улицу, направляясь ко мне, светловолосая девушка с веслами. Она прихрамывала и была худа как подросток.
— Что с вами? — спросила она.
— Что-то с ногой, — сказал я.
— Вставайте, — сказала она и подала мне весло.
Опираясь на весло и на остренькое плечико девушки, я поскакал по тротуару вдоль канала, стараясь не глядеть на дома, ибо и они скакали как марионетки в вертепе. Дом, мимо которого шли мы, умудрялся разрушиться до щебня, собраться воедино по кирпичику, перекраситься не единожды, исчезнуть до основания, притвориться деревянным и снова обрести первоначальный облик. Соседний в мгновение ока сгорел дотла и восстал из пепла. Другой пребывал попеременно собою и зеленой рощею. Третий… в третий попадала одна и та же бомба, он разваливался, возникал опять, а она опять… Спутница моя сказала, что сейчас мы придем, я прилягу, а она вызовет «скорую».
— Лучше такси, — сказал я.
— Как прикажете, — сказала она.
Мы вознеслись на лифте на последний этаж одного из облезлых домов; она впустила меня в полутемную кухню и усадила в большое видавшее виды кресло. Потом она принесла телефон, хвост за которым тащился, как крысиный. И заставила меня выпить какого-то горчайшего травного зелья.
— Легче будет, — сказала она.
Мансарда была мастерской ее отца, художника, и она прожила тут всю жизнь с младенчества; на своем получердачье она чувствовала себя как рыба в воде. Здесь прихрамывала она сильнее, чем на улице. Белые волосы и кисти выцветшей голубой шали. То ли зелье подействовало на меня, то ли окружение, представлявшее собою причудливую смесь бедности и какого-то театрального щегольства, — но мне стало веселее. Боль постепенно ослабевала, и я подумал о Кате и позвонил ей.