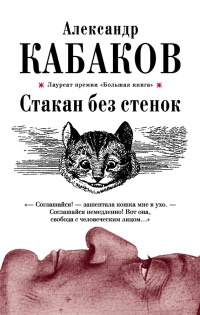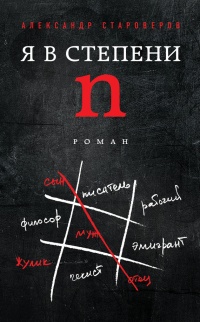Книга Запах искусственной свежести - Алексей Козлачков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но я хочу представить себе: как он работал, как снимал, как он вообще жил в лесу, когда остался совсем один, что заставляло его жить дальше? Мне это не удается, можно лишь попытаться реконструировать какие-то детали. Вот он еще по темноте – летом это даже приятно, а зимой – другое дело – зажигает огонь в керосиновой лампе (свет там был далеко не всегда) и, наверное, заваривает на керосинке чай. Потом курит, надевает валенки и тулуп, берет фотоаппарат, ружье, лыжи и идет в лес. Больше всего снимков было у речки и на дороге, ты помнишь. До речки – километра три, до дорог этих – еще дальше. И вот он идет в полной темноте по снегу, и скрип этого проминающегося под лыжами снега – единственный звук в беззвучной ночи, и он становится таким громким теперь, в этой тишине: если прислушаться, то начинает ломить в ушах. Да, да, я понимаю, тебе трудно представить, как легкий скрип снега зимней ночью может оглушить. Так и есть. Может быть, мы еще когда-нибудь послушаем это вместе. Правда, для этого нужно будет оказаться зачем-то в русском лесу ночью. Я пока не знаю, что нас может заставить это сделать… подумаем.
Он шел по одним лишь ему известным приметам, с собакой, фотоаппаратом и ружьем (ведь без ружья нельзя в глухом лесу) на намеченное для работы место. И там стоял, ожидая рассвета, прислонившись к дереву и прихлебывая чай из термоса, а возможно, и деревенский самогон. Дальше – медленные часы, проведенные на снегу в наблюдении за движением света. Он рассказывал, что ему нужно было «отработать» весь дневной свет на одном объекте, с одной позиции фотоаппарата, поэтому он иногда проводил в лесу все светлое время суток от рассвета до заката, снимая со штатива одну и ту же, скажем, ветку. Он разводил костер, пил самогон и к вечеру, скорее всего, изрядно напивался и возвращался назад уже опять по темноте. На следующий день он, вероятно, не шел в лес, а отдыхал, но уже через день снова шел на съемки, которыми он вообще занимался во все дни, когда не работал по хозяйству, не печатал снимки и не ездил в деревню за продуктами.
До деревни было километров десять: летом на велосипеде, а зимой на лыжах через лес – даже короче, и можно еще что-то снять. А потом – сотни, тысячи снимков ветки, листа, пенька, дорог, луж и телеграфных столбов на лесной дороге, лесных речек и ручьев в мерцающем, скользящем, рассеянном, гаснущем, разгорающемся, неверном, неровном, едва заметном – и каком еще там? – свете. Он их тщательно сортировал по каким-то загадочным признакам и укладывал в коробки из-под обуви, которые подписывал шариковой авторучкой. Можно было понять лишь отдельные надписи: «пень со снегом», и дальше – число, время, место, длительность съемки. На какой-то коробке я успел однажды прочитать слово «близко», на другой разобрал слово «вспыхнуло» и еще одно – «неизбежно», затем слово «умирание»; дальше было неразборчиво и опять – числа, длительность, время. Он не любил, когда кто-то подходил к этим полкам с коробками, и в конце концов отгородил их плотной занавеской.
Наверное, мы даже представить себе не можем достаточно ясно, каково там было зимой одному, в этой избушке. Ты помнишь, как там жутко было даже летней ночью? Если небо в тучах, то со всех сторон тебя окружает полная тьма: глухой, беспросветный и почти всегда влажный, по псковской погоде, лес. И ни огня кругом, ни даже намека на свет. Кажется, что мир обрывается тьмой сразу перед твоим лицом и дальше лишь бесконечная темнота. А зимой все сплошь белое с черными пятнами леса и тоже – ни огня. Даже непонятно – когда жутче? Все удивлялись: как там можно жить в одиночку круглый год? Даже испытанный житель лесов, мой армейский товарищ, который вообще родился и вырос в лесу, – удивлялся и он. А художник жил… Я вот думаю: что должно было случиться в голове у обычного фотографа из фотоателье, штампующего как автомат бесконечные фото для документов и Досок почета, чтобы он решился уехать в глушь, обречь себя на одиночество и тяготы всего лишь для того, чтобы снимать разное состояние света в природе? Сейчас, вспоминая все, я могу предположить, что его подвигали к этому две идеи, которые действовали либо вместе, либо одна в какой-то период первенствовала. В его воспаленных случайных высказываниях и порывистых поступках были намеки на обе.
Первая – это тщеславие, которого он был вовсе не лишен, по крайней мере в тот период, когда уходил с работы в городе. При этом ему невероятно везло в каком-то житейском, бытовом смысле – по смерти очередного родственника ему отходила квартира или даже дом в Пскове. Квартиры и дома он последовательно продавал и устраивал свои выставки сначала в Москве, а потом даже и в Берлине. Очевидно, что в данном случае им двигала надежда на то, что его «поймут и оценят». Наверное, лишь общая умственная расслабленность советских времен, своеобразное «измененное состояние сознания», свойственное всему советскому народу, а в особенности так называемой «советской интеллигенции», могли дать ему иллюзию спасительности творчества, но не в высшем смысле, чем оно, возможно, и является, а в каком-то общественно-социальном: вот, мол, «они» увидят, удивятся – и все поймут, и воздадут мне должное, я буду богат, знаменит и ко мне вернется ушедшая жена, хотя бы одна из двух.
Славы, однако, он не снискал, приехал из Берлина грустный: «Они этого не понимают, фотографируют ржавые городские трубы да голых баб. Это не для меня». Квартиры были профуканы впустую, жить стало не на что – раньше он их хоть сдавал. И тогда на первое место выступила другая причина, удерживающая его в лесу, также не вполне трезвая.
Это была любовно свитая, как гнездо заботливой птицы – из мелких щепочек, хворостинок и перышек… вылепленная, как голографическое изображение из отдельных лучиков и отражений, мистика света, которая лепилась тем азартнее и экстатичнее, чем больше неудач он терпел во внешней жизни. Функция мистики, зачастую компенсаторная или даже всегда компенсаторная…
Ну что ты все время смеешься, когда я начинаю рассуждать о мистике? Как человек, любящий мясо с кровью, соленые огурцы, физические упражнения, боль в мышцах и ветер в голове, – ну что я еще могу думать о мистике? Ну, разумеется, я не профессор истории религий, но в случае с Сергеем – художником – это было более или менее очевидно. Очевидно, что компенсаторная… Ну хорошо, хорошо – мне очевидно. Но я могу себе легко представить, что, живя в лесу в одиночку и питаясь к весне исключительно гнилой картошкой и испорченными консервами (там даже консервы портились), трудно было не слепить себе какой-нибудь успокоительной мистической апологии своего лесного жительства, тем более из такой удобной субстанции, как свет, – просто квинтэссенция мистики. Скорее даже – без этого было бы не прожить в лесу долгое время, если ты не христианский подвижник или что-то в этом роде.
Время тому благоприятствовало: из русского телевизора странные люди с нездоровым блеском глаз или, напротив, со зрачками, совершенно не отражающими света, без устали заряжали положительной энергией банки с водой, тюбики с зубной пастой и сапожным кремом или повышали потенцию на расстоянии. По городам и весям брели тысячи, если не сотни тысяч колхозных мистагогов, шаманов, гипнотизеров, колдунов и ведьм в шестнадцатом поколении, уча достигать астрала и транса, раскрывать и закрывать чакры, как простые глаза, или очищать карму от шлаков, а «снятие венчика безбрачия» стало такой же частой операцией на просторах родины, как и обычный аборт, или даже более частой. Я помню, одно время к нам в редакцию в Москве приходила некая «потомственная шаманка», предлагавшая «поправить карму газеты». Операция стоила всего 500 баксов. А самым забавным был какой-то чудак, который предлагал всем заняться с ним «сексом в астрале», а когда женщины с непривычки шарахались, он разъяснял, что это совершенно «не то, что они подумали», что здесь нет «никакой грязи» и что это – «почти молитва»… Он впихивал всем желающим и нежелающим отпечатанные методические рекомендации по этому поводу, где были изображены мужчина и женщина «в разрезе», сидящие в позе Лотоса, а из причинных мест у них распространялись круги, что-то наподобие радиоволн, – вероятно, это было схематическое изображение сексуальной энергии. Круги эти кучерявились по краям – в местах пересечения с сексуальными радиоволнами партнера. На лицах было довольно умело для такого мелкого рисунка изображено блаженство в виде «улыбки Будды». А мастер астрального секса монотонно-обыденным голосом разъяснял, что происходит на схеме и что необходимо предпринять, чтобы испытать неземное (астральное) наслаждение с любой, по сути, женщиной. Демонстрируя умение, он сажал свою ассистентку в кресло, делал несколько пассов руками возле ее живота, потом еще ниже, ближе к промежности, а затем с хрипом орал что было силы: «Пошел оргазм!» И тот вроде действительно «шел», поскольку ассистентка начинала стонать и извиваться, как это обычно бывает во время половых акций, особенно если их показывают по телевизору. Мы, кстати, пытались его убедить довести до оргазма секретаршу шефа; разумеется, на расстоянии, но он отговаривался тем, что, мол, работает напоказ лишь с «продвинутой» в его учении ассистенткой – как это обычно бывает у настоящих мистиков.