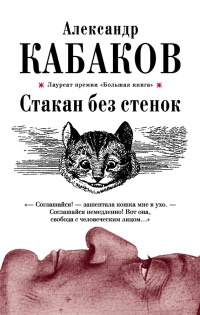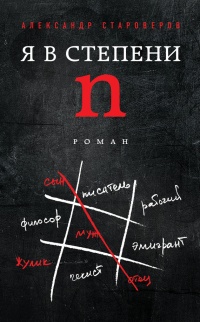Книга Запах искусственной свежести - Алексей Козлачков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А когда мы заснули, он бабахнул из ружья возле нашей картонной двери, которой был отгорожен угол в избе у моего товарища, – в отместку. Я хотел было тут же встать и набить ему морду, чтобы драматургия русской дружеской встречи оказалась вполне законченной, да вовремя, несмотря на пьяную голову, вспомнил, что у ружей бывает иногда и по два ствола. В подтверждение моей догадки он выстрелил второй раз. После этого я все же выскочил, рассчитывая, что перезарядить он уже не успеет и тут-то я ему морду и набью. Но вмешался мой бдительный армейский товарищ со своим патологическим миролюбием, и художникова морда так и осталась ненабитой. Наверное, и к лучшему, поскольку поутру он подарил мне пачку своих замечательных фотографий, чего, скорее всего, не произошло бы, осуществи я в ту ночь свою акцию возмездия, – ты их, конечно, помнишь?
На одной из них – изгиб лесной проселочной дороги, еще не окончательная зима – лишь тонкий снег и прочерни по обочинам, и колея тоже обозначена чернотой. Уж не на эту ли дорогу он звал нас в ту лунную ночь? Легко представить, как летом и осенью после дождей эти колеи заполняются водой и в каждой из лужиц в лунные ночи оседает по луне: в больших – по большой, а в маленьких – маленькие. Получается, что вся дорога утыкана лунами. Я вот уже практически вижу эту лунную грядку на дороге, на которой мы так и не побывали. А ты?
На этом фото – предзимняя дорога, запорошенная снегом, с черными колеями – кто-то проехал, а снегу еще не так много. Это сумерки: свет или гаснет, или только появляется, то есть снято здесь утром или перед вечером. Представить в это время на этой дороге человека – и уже мороз забирается под воротник, даже если рассматривать фотографию сидя в хорошо натопленной комнате или на пляже летом – все равно пробирает. Знобит только от одной мысли оказаться на этой дороге ранним утром поздней осени или на исходе дня. Я думаю, что знобит даже не от ощущения холода, а от предчувствия экзистенциального ужаса – несовместимости сосуществования человека и ледяного затерянного проселка. Здесь человеку не столько страшно, по крайней мере, не так обыкновенно страшно, как это бывает в городе перед хулиганами или перед резко затормозившей машиной, – сколько он сразу начинает испытывать ужас и одиночество перед заглатывающей бездной, перед бессмыслицей этого повторяющегося перехода из тепла в холод, из света в темноту, перед непостижимостью этой механистической, не зависящей от него смены антуража его собственного существования. Без человеческой фигуры этот ледяной пейзаж как-то спокойней, это будто бы взгляд Бога на ледяную красоту проселка со следами человеческого исчезновения в виде изгиба колеи. Но еще жутче становится, когда представишь, что человек-то здесь есть, ведь это он сделал этот снимок, он присутствовал при этом беззвучном леденении. Впрочем, нет – хуже было бы, если он все же оказался в кадре. Ты только представь… Нет, сдаюсь – я не знаю, что хуже… Все как-то очень холодно и бесприютно.
Представь еще, как он шел назад в свою хибару в полной темноте (если снимок сделан вечером) – ни огня кругом! – все эти пять километров, что мы с тобой не прошли по лунной ночи летом. Или наоборот, как он пробирался к этим дорогам еще в темноте, если снимки сделаны в предутренних сумерках. Если даже этих километров было не пять, а вполовину меньше, то это почти час ходьбы по темноте в полном одиночестве. Впрочем, он ходил всегда с собакой, ну да – в темноте, вдвоем с собакой, несколько часов ходу, чтобы поймать рассеянный свет на дальних дорогах.
А вот знаменитое фото стула и его тени на обшарпанной стене (здесь, кажется, без Ван Гога не обошлось), которое потом опубликовали во многих фотографических журналах, где яркое солнце через окно нарисовало еще тень рамы, тень занавески и тень стоящего на подоконнике цветка. Это печаль застывшей текучести, ведь с каждой секундой тени смещаются, становятся длинней, и наконец – на стене ничего нет: ни теней, ни просвета окна. Но мы этого уже не увидим, мы никогда не увидим исчезнувшего солнца и света. Покуда смотрим на эту фотографию, покуда не отрываясь смотрим…
Или это чудесное фото четырех аистов, сидящих в ряд на телеграфных столбах при опять же угасающем свете дня, почти в сумерках, при этом половину высоты столбов снизу отрезает стелющийся вечерний туман.
Из многих серий снимков можно заключить, что его более всего интересовал как раз сам процесс изменения света – угасания и рассветы, дрожания, просветы, блики, ломаный свет, просачивание света сквозь что-то, возникновение и исчезновение света; именно поэтому так много композиций построено на рассветах и закатах, на границе тьмы и света.
А вот и он сам, очень худой, весь в бликах солнца через листву, так что можно было бы подумать, что фото делал начинающий фотограф, но это лукавство мастера, черт лица почти не разглядеть, они тонут в солнечных пятнах – расплавляются светом. Кто его фотографировал? Скорее всего – никто, автоспуск повешенного на ветку фотоаппарата. Он называл это фото в шутку «художник и модель», то есть свет.
И больше ни на одной из его фотографий нет людей, только истекающий отовсюду свет. Ему, так мне кажется, удавалось иногда добиваться этого предгрозового эффекта свечения предметов, истекновения из них света, хотя у природы это и бывает окрашено янтарем, а у него всегда лишь черно-белые фото (он, кстати, не признавал цветной фотографии, даже не смотрел никогда); и все равно – он добивался. Конечно, отсутствие людей – это сознательный выбор, ведь фотографии людей – портреты и ситуации, постановочные и репортажные снимки – это современные «мементо мори», напоминания о смерти, пусть даже большинство людей не отдает себе в этом отчета. Поэтому, наверное, рассматривание фотографий людей, пусть это даже снимки бытовых событий, застолий, каких-то сборищ (а то и особенно – застолий и сборищ), всегда навевает грусть – они отсылают к смерти. Ведь в фотографию, как в реку, люди входят лишь однажды; они всегда старше своих фотографий, их зыбкие лица перетекают через снимки и текут дальше, покрываясь морщинами, язвами и старческими бородавками, – все знают, куда течет эта река…
В фокусе портретной фотографии всегда смерть, это она хватает смотрящего за грудки, притягивает и говорит: смотри – это ты молодой, ты теперь уж не тот, а это твоя возлюбленная, ее уж и вовсе нет, а это твои дети, которые уже давно не дети. Мне иногда кажется, что хранить дома прислоненной к стенке крышку своего будущего гроба было бы более человеколюбиво, чем выставлять напоказ фотографии человеческих лиц. Мне так правда кажется, не смейся… Ты считаешь, что к смерти надо отсылать? Так это ты считаешь или римляне? Возможно, ты вместе с римлянами и права, но иногда хочется о ней забыть и думать о чем-нибудь более увлекательном. Да, да, именно поэтому я не ставлю твою фотографию на стол, а не потому, что ты подумала… И не путай меня, пожалуйста, мы говорим о фотографии, живопись – это другое, там всегда присутствует – ну, в хорошей живописи, разумеется, – отблеск высшего замысла о нас, но самое главное, что есть в живописи, а точнее, чего в ней нет – это противоестественности остановленного мгновения гниющей плоти. В дофотографическую эпоху, я уверен, люди были гораздо счастливее, по крайней мере, смерть не накалывала столь жестоко им глаза испаряющейся с каждой афиши, исчезающей плотью.