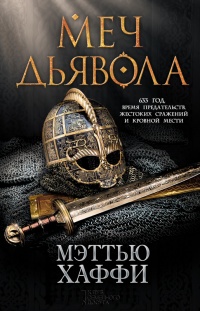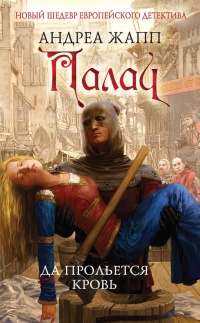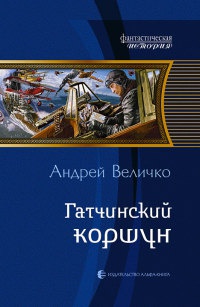Книга Сен-Жюст. Живой меч, или Этюд о счастье - Валерий Шумилов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пусть другие народные избранники могли этого и не понимать – что с того! Богатые буржуа, подкупленные журналисты, честолюбивые провинциалы, мечтающие о власти, разве могли они думать об интересах простого народа, составлявших большинство третьего сословия? В своем ослеплении они говорили о преклонении Робеспьера перед законом, перед боязнью нарушить любой, даже самый «неправильный» закон, пойти против «избранной» власти, встать во главе восстания! Этим и объясняли его якобы колебания каждый раз перед принятием решительных мер.
Но разве мог Максимилиан Робеспьер бояться преступить какой-то там закон, будучи сам по себе выразителем Общей воли, которая и являлась абсолютным законом?! Нет! Другое дело, что он не мог и пойти против волеизъявления суверена, не мог опережать события.
Правда, был еще и Марат… Тот самый доктор Марат, который настораживал и пугал Робеспьера. Друг народа тоже был выразителем воли суверена, пусть не всего, но, по крайней мере, той его части, которая, в значительной степени, и двигала Революцию. За Маратом стояла нищета, и не просто нищета, а нищета тысячелетняя, неискупаемая, безысходная…
И в этом Марат был сильнее Робеспьера.
Потому что вслед за всенародной антимонархической Революцией пришло и то страшное, которого так боялись все добропорядочные граждане, – лицо нарождающейся Республики обожгла своим горячим дыханием Анархия. Потому что вслед за Августом пришел Сентябрь…
ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА
[75]
КАРМАНЬОЛА
2-5 сентября 1792 года. Париж
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю…
Не на краю, но в глубине
Восторг последний мнился мне.
Карманьола!
Вот она, песня, получившая боевое крещение под залпы пушек 10 августа, которая не стала гимном оборванцев-санкюлотов, как ее сестра-близнец грозная «Cа uра!», родившаяся на первом Празднике Федерации; которая не стала и гимном всей восставшей Франции, как ею стала восторженная песня Рейнской армии «Марсельеза», пропетая марсельскими федератами (в скором времени – изменниками-федералистами), вступившими с ней в Париж, – нет! – «Карманьола», которую не только пели, но и танцевали, стала нечто большим, превратилась в некое ритуально-мистическое действо, в какое-то молитвенное служение новому триипостасному богу Свободы – Равенства – Братства. Только храмом для ее исполнения служила улица, а вместо молитвы звучал угрожающий рефрен «Отпляшем карманьолу под гром пальбы!» и «Славьте пушек гром!», и, казалось, что эти пушечные залпы действительно раздаются в ушах, потому что вместо торжественной музыки песня сопровождалась прихлопыванием и притопыванием тысяч заскорузлых ладоней и грубых башмаков.
Нельзя найти лучших слов для описания этой странной песни-пляски, чем это сделал Диккенс в своей бессмертной «Повести о двух городах»: «Толпа была громадная, человек пятьсот, и все они плясали как одержимые. Музыки не было, они плясали под собственное пение. Пели сложенную в то время излюбленную революционную песню
с грозным отрывистым ритмом, напоминавшим какое-то дикое лязганье или скрежет зубовный. Схватившись за руки – мужчины с женщинами, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, – кружились кто с кем придется. Вначале даже нельзя было разобрать, что это за пляска; казалось, это какой-то бешеный вихрь стремительно мелькающих красных колпаков и пестрых лохмотьев. Но когда вся толпа вышла на открытое место и закружилась перед тюрьмой, что-то похожее на фигуры какого-то дикого неистового танца стало проступать в этом круженье. Стоя друг против друга, они сходились, потом, отпрянув назад, ударяли друг дружку в ладоши, хватали друг друга за головы и, снова отпрянув, кружились сначала в одиночку, потом, схватившись за руки, парами, все быстрей и быстрей, пока многие не падали в изнеможенье; тогда, сомкнувшись в хоровод, толпа кружила вокруг упавших, затем распадалась на маленькие кружки; кружились четверками, парами, а потом вдруг все сразу останавливались; и опять все начиналось сначала: сходились, отпрядывали, хлопали в ладоши и снова принимались кружиться в другую сторону. Наконец, когда они уже в который раз внезапно остановились, на минуту водворилась тишина; потом, хлопнув в ладоши, они снова затянули песню, грозно отбивая такт, построились в колонну, во всю ширину улицы, и, опустив головы и вскинув руки, с воем ринулись дальше. Что-то поистине дьявольское было в этой пляске; никакая ожесточенная битва не могла бы произвести такого страшного впечатления; невинное здоровое развлечение – танец, превратилось в какой-то бесовский пляс, гневный, дурманящий голову и разжигающий ярость. И когда в этих порывистых движениях мелькало что-то грациозное, они казались еще ужаснее, оттого что природная грация и красота были так жестоко изуродованы. Юная девическая грудь, обнаженная в неистовом исступлении, прелестное, почти детское личико с дико остановившимся взглядом, маленькая ножка, топтавшая кровавое месиво, – вот что мелькало в бешеном вихре этой бесовской пляски. Это была карманьола».
И вот эта карманьола, вырвавшись на улицы Парижа, из самых его подворотен, с самого его дна, потому что, признаем это: карманьола была ритуальной пляской городских низов, выброшенных за борт жизни бедняков, для которых революция стала ослепительным лучом света в царстве мрака (надолго ли?), – так вот эта карманьола затопила грязной толпой великий город в эти августо-сентябрьские страшные дни девяносто второго года, четвертого года Свободы.