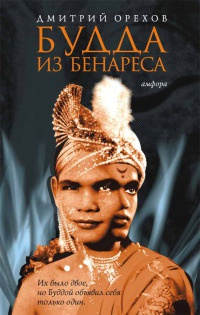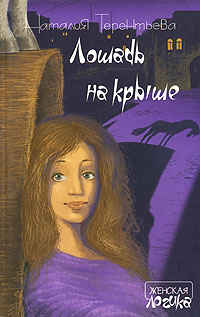Книга Маковое море - Амитав Гош
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Гниды? Мандавошки?
— Нет, саиб.
— Родимые пятна? Увечья?
— Никак нет.
Нил не ведал, что прикосновение одного человека к другому может быть таким безучастным: никакой злости, нежности или похоти — его равнодушно ощупывали, словно покупку или трофей. Казалось, тело его перешло к другому владельцу, и тот, словно хозяин недавно купленного дома, проводит инвентаризацию, прикидывая, что подремонтировать и где поставить мебель.
— Сифилис? Гонорея?
Впервые за все время надзиратель заговорил по-английски, но во взгляде его не было даже намека на улыбку, одна только издевка; Нил, растопырившийся перед лекарем, который выискивал родинки и другие особые приметы, тотчас ее уловил.
— Почему вы не удостаиваете меня ответом, сэр? — спросил он. — Не уверены в своем английском?
Глаза тюремщика полыхнули бешенством от вопиющей наглости заключенного-индуса, посмевшего осквернить его родной язык. Вот тогда-то Нил понял, что даже раздетый донага и лишенный защиты от шарящих по его телу рук, он может противостоять тому, чья власть над ним безраздельна. Головокружительное открытие наполнило его ликованием: отныне он будет говорить по-английски, когда и где только возможно. Но от жгучего желания испытать свою новую силу все слова забылись, в голове мелькали только обрывки заученных текстов:
— …Вот так всегда. Как это глупо! Когда мы сами портим и коверкаем себе жизнь, обожравшись благополучием, мы приписываем наши несчастья солнцу, луне и звездам…[52]
— Ганд декхо! Очко проверьте! — зло скомандовал надзиратель.
Нила согнули пополам, но он продолжил, высунув голову меж раздвинутых ног:
— …гордый человек, что облечен минутным, кратковременным величьем… не помнит, что хрупок, как стекло, — он перед небом кривляется, как злая обезьяна…[53]
Эхо его голоса билось о каменные стены. Нил выпрямился, и надзиратель наотмашь ударил по лицу.
— Заткнись, дерьма кусок!
В былые времена прилилось бы мыться и сменить одежду, краем сознания отметил Нил. Сейчас это уже не имело значения, главное — тюремщик заговорил по-английски.
— Счастливо оставаться, сэр,[54]— поклонившись, пробормотал раджа.
— Уберите с глаз моих этого засранца!
В соседней комнате Нил получил связанную в узелок одежду. Охранник перечислил выданные предметы:
— Верхняя рубаха, две нижних, пара дхоти, одно одеяло. Береги, все это на полгода.
Нестираная одежда была из грубой ткани, похожей на мешковину. Дхоти оказались вдвое уже и короче тех полотнищ в шесть ярдов, к которым привык Нил, и явно предполагались как исподнее. Глядя на неумелые попытки раджи справиться с повязкой, охранник рявкнул:
— Чего рассусоливаешь? Прикрой срам-то!
Кровь бросилась Нилу в голову, он выставил естество и с развязностью сумасшедшего крикнул:
— А что? Ты уже насмотрелся?
Взгляд охранника смягчился:
— Совсем стыд потерял?
Нил кивнул, будто хотел сказать: верно, отныне он не ведает стыда и не отвечает за свое тело, перешедшее во владение тюрьмы.
— Пошевеливайся!
Терпение охранников лопнуло; один вырвал повязку из рук Нила и показал, как закрепить ее на пояснице, пропустив между ног. Затем конвоиры вытолкали раджу в сумрачный коридор и, подгоняя тычками пик, привели в яркую от свечей и масляных плошек каморку, где на испятнанной тушью циновке восседал седобородый человек. Его обнаженный торс испещряли замысловатые татуировки, а на разложенной тряпице поблескивали иглы. Сообразив, что перед ним татуировщик, Нил дернулся к выходу, но привычные охранники вмиг скрутили и повалили раджу на циновку, уложив его голову на колени старику.
Добрые старческие глаза сподобили Нила на вопрос.
— Зачем вы это делаете? — выговорил он, глядя на приближавшуюся к его лбу иголку.
— Так положено, — негромко ответил татуировщик. — Всех ссыльных метят, чтоб не вздумали бежать.
Когда игла ужалила, стало невозможно думать о чем-то ином, кроме волнами расходившейся боли; казалось, тело мстит за иллюзию освобождения от него и так напоминает, кто его единовластный хозяин.
Будто сжалившись, татуировщик прошептал:
— Ну-ка, пожуйте… — Рука его втолкнула в рот Нила вязкий кругляш. — Это поможет, съешьте…
Размякший во рту опий притуплял не боль, но ощущение времени: вся мучительная процедура сжалась до коротких минут. Будто сквозь густой зимний туман донесся шепот татуировщика:
— Раджа-саиб… раджа-саиб…
Нил открыл глаза: он все еще лежал на коленях старика, стража кемарила в углу камеры.
— Что такое? — шевельнулся раджа.
— Не волнуйтесь, я разбавил тушь водой, — прошептал татуировщик. — Через два-три месяца метка исчезнет.
Одурманенный Нил плохо соображал.
— Зачем вам это?
— Вы меня не узнаете, раджа-саиб?
— Нет.
Татуировщик склонился к его уху:
— Моя семья из Расхали. Мы получили землю от вашего деда, уже три поколения нашего рода живут вашей милостью.
Он подал Нилу зеркало:
— Простите за то, что мне пришлось сделать, раджа-саиб…
В зеркале Нил увидел, что волосы его коротко острижены, а на правом виске появились две строчки кривыми латинскими буквами:
подложник
алипор 1838
В комнате Захария было не повернуться, а гамак, сплетенный из кусачей кокосовой мочалки, приходилось выстилать одеждой. Укладываясь спать, Захарий почти упирался ногами в окно — давно лишенную ставен квадратную дыру, выходившую в проулок с чередой питейных, борделей и меблирашек; улочка заканчивалась верфью, где нынче кренговали, шпаклевали и латали «Ибис». Мистер Бернэм был не слишком доволен выбором помощника: «Самое безбожное на свете место, не считая окраин Бостона! Зачем соваться в этот гадюшник, когда в миссии преподобного Джонсона есть простой и удобный Дом моряка?»