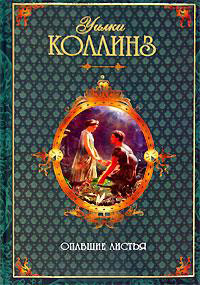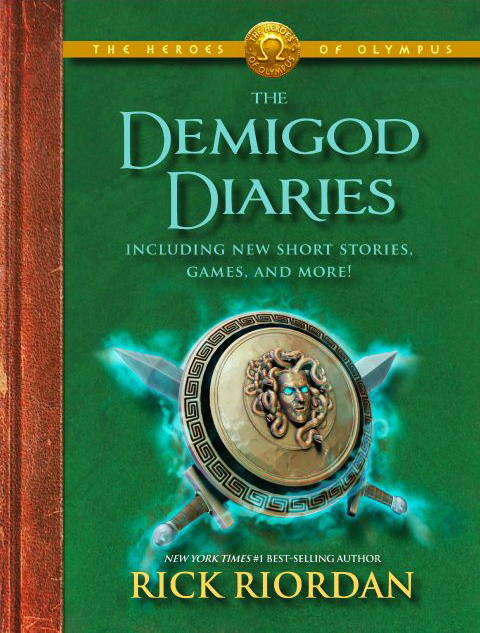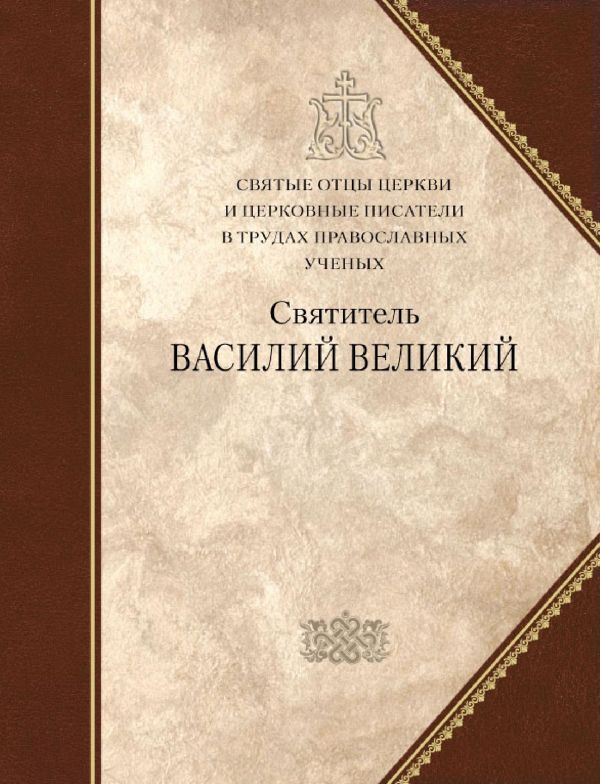Книга Опавшие листья - Василий Васильевич Розанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На вопрос (об акафисте):
– Меня успокаивает.
Она никогда не читала перед образом, на коленях. Всегда сидя, – почему-то даже не на кушетке, а на кровати. Не помню положения ног, но не лежа. Скорей сжалась, – и молится, молится «Всех скорбящих радости».
В Луге уже не могла, и я читал ей. Она лежит на кровати, я стоял на коленях на полу, но оборотившись так, что она видела – и я «еще подвернувшись» тоже мог видеть – образ и перед ним зажженную лампадку.
А по воскресеньям и накануне праздников – так это было хорошо. На старом (без употребления) подносе стоит ряд лампадок. Во все наливается масло. Это – в столовой, и стоят они с огоньками, как свечи «на кануне» в церкви…
И вот эти огоньки уже несутся (в руках) в разные комнаты, в спальню, в детские, в кабинет…
У нее своей комнаты (отдельной) никогда не было, и даже в сущности и не было (годами) у нас спальни: на ночь вынимался из сундука (в прихожей) матрац, и устраивалась постель в моем кабинете.
* * *
Революции основаны на энтузиазме, царства – на терпении.
Революции исходят из молодого «я». Царства – из покорности судьбе.
Он был весь в цвету и красоте, женат на младшей из многочисленных сестер, недавно кончившей гимназистке, и пока находился в гостях у ее старшей сестры. Ее муж был старый кашляющий чиновник, собравшийся умирать.
Что у него не болело: печень, почки, сердце, кости. Он был желчен и груб, но с молодым зятем (т. е. с этим мужем сестры жены), – о котором знал, что он революционер, – старался быть сдержанным и отмежевывался коротенькими:
– Не знаю-с…
– Как угодно-с…
– избегая речей и более связного разговора. Но жену свою, имея все права на нее, беспощадно ругал и был невыносимо груб, не стесняясь гостями и их революционерством.
Она вышла за него, двадцати девяти лет, для детей и хозяйства и вообще «исполнения женского назначения», когда ему было за сорок. Теперь ему было за пятьдесят, но он представлял труху болезней, и от непереносимого состояния собственно и ругался.
Скоро он умер. И помня, что он все ругался, я спросил Петю (меньшего брата революционера), смиренно готовившегося стать учителем рисования. Он с недоумением выслушал мой негодующий вопрос:
– Нет, он не был худой человек. Ругался? – но оттого, что у него все болело. Последние недели перед смертью он все заботился, чтобы вдова его не осталась «ни при чем», и хотя он не дослужил до пенсии, но заблаговременно подал о ней прошение и представил свидетельства докторов. Да и имущество, правда бедное, укрепил за нею одной, чтобы не могли вмешиваться другие родственники. Нет, он был хороший человек и хороший муж. Если старый, – то ведь она же пошла за старого.
Володя сидел «в крестах», и жена носила ему обеды. Она была очень некрасива, как-то мужеобразна. Он же был удивительный красавец, высокого роста и стройный, с нежным лицом и юношеским голосом. Наконец, будучи сама без денег, она откуда-то раздобыла 1000 р. и совсем высвободила его под «залог» этой тысячи.
Я видел их сейчас по освобождении. Она была так полна любовью, а вместе контраст его красоты и ее некрасивости был так велик, что она не могла более нескольких минут быть с ним в одной комнате. И я их не видел вместе, рядом, – разговаривающими.
Она только смотрела на него откуда-то, слушала из другой комнаты его голос. Но как-то избегала, точно в застенчивости, быть «тут».
Он был ласков и хорош, с нею и со всеми. Он был вообще очень добр, очень ласков, очень нежен и очень деликатен. Он был прекрасный человек. И прекрасный с детства. Любимое дитя любимых родителей.
Это от него я услышал поразительное убеждение:
– Конечно, университет принадлежит студенчеству, потому что их большинство. И порядок, и ход дел в университете вправе устанавливать они.
Это на мое негодование, что они бунтуют, устраивают беспорядки и проч.
Сам, кончив отлично гимназию, он был исключен с медицинского факультета Московского университета, потому что вместе с другими стучал ногами при появлении в аудитории Захарьина. Захарьин был аристократ и лечил только богатых, а Володя был беден и демократ, и хотел, чтобы он лечил бедных.
Поэтому (стуча ногами) он стал требовать у начальства чтобы оно выгнало Захарьина, но оно предпочло выгнать несколько студентов и оставить Захарьина, который лечил всю Россию.
Он перешел в «нелегальные», потом эмигрировал. Потом «кресты» и, наконец, – на свободе.
Вскоре он бежал. Но еще до бегства случилась драма.
Посещая его жену, я всегда слышал ответ, что «Володя ушел». Из соседней комнатки вылезала какая-то в ватных юбках и ватной кофте революционерка, до того омерзительная, что я не мог на нее смотреть.
* * *
Год прошел, – и как многие страницы «Уединенного» мне стали чужды: а отчетливо помню, что «неверного» (против состояния души) не издал ни одного звука. И «точно летел»…
Теперь – точно «перья» пролетевшей птицы. Лежат в поле одни. Пустые. Никому не нужные.
Не «мы мысли меняем как перчатки», но, увы, мысли наши изнашиваются как и перчатки. Широко. Не облегает руку. Не облегает душу.
И мы не сбрасываем, а просто перестаем носить.
Перестаем думать думами годичной старости.
* * *
Хороша малина, но лучше был окурок. Он курил свернутые сосульки, и по кромке парника лежала где-нибудь коричневая сосуля – сухая (на солнышке), т. е. – сейчас закурить.
Мы ее с Сережей не сразу брали, а указав пальцем, как коршуны над курицей, – стояли несколько времени, мяукая:
– Червонцы.
– Цехины.
Это было имя монет из «Тараса Бульбы» («рубли», конечно, не интересовали, – не романтично): но, разыскав 1–2 таких сосули, садились невидно, под смородину, и, свернув крючок (простонародная курка) – препарировали добро, пересыпали туда, и по очереди – с страшным запретом два раза сплошь не затянуться одному – выкуривали табак.
Сладкое одурение текло по жилам. На глазах слезы (крепость и глубина затяжки).
Он был слаще всего – ягод, сахара. Женщины мы еще не подозревали. А ведь, пожалуй, это все – наркотики, – и женщины. Ибо отчего же в 7–8 лет табак нам был нужнее хлеба?
* * *
Да как же без amor utriusque sexus[87] обошлось бы дело? Как же бы мы могли начать относиться к своим (noster sexus[88]) с тою миловидностью, с тою ласковостью, с тою нежностью, с какою обычно и по природе относимся к противоположному полу, к alter sexus?..[89] без чего нет глубины отношения, а без amor nostri sexus[90] нет закругленности отношения. Universaliter debet amor mundi[91]. Но тогда явно ласка должна простираться туда и – сюда. Таким образом, действительно удивительная приспособленность к этому in natura rerum[92] – получает свое объяснение. Организм индивидуума поразительно гармонирует, «созвучит», организму человечества.
* * *
Некоторые из написанных обо мне статей были приятны, – и, конечно, я связан бесконечной благодарностью с людьми, разбиравшими меня (что бы им за дело?): Грифцов, какой-то Закржевский (в Киеве), Волжский. Но в высшей степени было неприятно одно: никакой угадки меня не было у них. То как Байрон «взлетел куда-то». То́ – как «сатана», черный и в пламени. Да ничего подобного: добрейший малый. Сколько черных тараканов повытаскивал из ванны, чтобы, случайно отвернув кран, кто-нибудь не затопил их. Ч<уковский> был единственный, кто угадал (точнее – сумел назвать) «состав костей» во мне, натуру, кровь, темперамент. Некоторые из его определений – поразительны. Темы? – да они