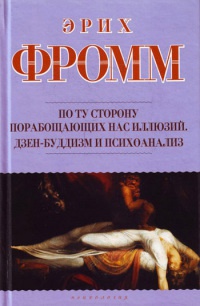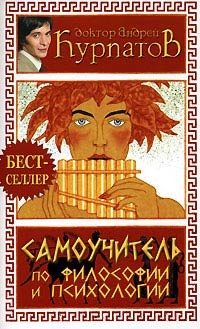Книга Время утопии. Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха - Иван Болдырев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В 1938–1942 гг. Адорно неприязненно воспринимает сталинистские высказывания Блоха, считая недопустимой поддержку советских политических процессов, но вместе с тем не разрывает с ним отношений и время от времени положительно отзывается о его работах, оказывая ему некую минимальную поддержку. В 1942–1959 гг. они практически не общались, а в 1959 г. встретились на конференции во Франкфурте-на-Майне (как пишет Адорно, Блох приехал туда в основном для того, чтобы с ним примириться), и дружеские, но неизменно сдержанные отношения возобновились и продолжались до кончины Адорно в 1969 г. После этого Блох не изменил своего отношения к Франкфуртской школе, Адорно для него оставался образцом «овеществленного отчаяния» и «скверной негативности» (AC, 324).
Шмид Нерр показывает, сколь несправедливы были со стороны Блоха и отдельных его интерпретаторов обвинения в пессимизме и резиньяции, которые они обращали в адрес критической идеологии Адорно. Для Адорно возможность изменения, преобразования мира никогда не исчезала, а негативная диалектика никогда не теряла революционности. И хотя мессианизм был для него (особенно в последние годы) все менее и менее актуальной философской темой[597], опыт мессианской философии остался важен и в преобразованном виде сохранился в концепции негативной диалектики. Что в ней не сохранилось, так это, как верно замечает А. Мюнстер, доверие к марксистскому активизму[598]. Отношение Адорно к окружавшей его социальной действительности не похоже на бунт революционера-плебея вроде Томаса Мюнцера – это, скорее, негодование эстета, задыхающегося в мире массовой пошлости, эстета, для которого фальшь и банальность – не просто контрреволюция, для которого они – сама смерть.
Первое и главное эссе о Блохе Адорно пишет в 1959 г., когда вышло в свет переработанное издание «Следов». В журнале «Neue Deutsche Hefte» статья вышла под заголовком «Große Blochmusik», что из уст музыковеда Адорно звучало весьма презрительно и воспринималось как насмешка, поскольку напоминало «Blechmusik»[599].
Внимание Адорно сосредоточено на том опыте, который пытается передать Блох, – это опыт неидентичности, того, о чем невозможно говорить, опыт детских переживаний, обладавших когда-то полнотой, для которой слова были избыточны. Именно поэтому проза Блоха для Адорно – выражение некой невозможности, усугубленной тем, что Блох – прирожденный рассказчик, а это искусство, утверждает Адорно вслед за Беньямином, ушло в прошлое вслед за эпическими формами[600]. Рассматривая философию Блоха как рассказ, как повествовательную прозу, Адорно не может критиковать ее с обычных позиций. Рассказ, чья истинность рождается и преобразуется в необратимом потоке времени, трудно разбирать по частям, задаваясь вопросами о его структуре или познавательном статусе, он, как пишет Адорно, оставляет позади себя все свои интерпретации[601]. Подобный анализ руководствовался бы мерками того, что есть, никак не освобождаясь от авторитарности фактов. Но Блох, согласно Адорно, реабилитирует рыночных зазывал и шарлатанов, повествующих о философском камне и об обретенной ими премудрости, потому что его тексты хранят великую силу видимости, возвышая выражение над содержанием, преодолевая дистанцию между рассказчиком и окружающим его вещным миром, а его утопия обитает в полом пространстве между этой видимостью и простой данностью[602].
Исток радикализма самого Адорно – в авангардной эстетике, в парадоксальном, непонятийном, неидентичном искусстве, и именно эти моменты он наследует у Блоха, именно на них накладывается его понимание истории и политики. Мы помним, что Блох не разделял утопию и идеологию, как это делал Маннгейм, утопия для него – тоже идеологична. Иными словами, утопия тоже «обманывает». Но этот обман связан с искусством, близким Адорно, поэтому, выбирая между идеологическим обманом и обманом утопическим, он явно предпочитал второе.
Однако проблемы в утопической философии есть, и первая из подмеченных Адорно – банальность. Подобно тому как в психоанализе все что угодно может стать символом сексуальных влечений, у Блоха, в отличие от Беньямина, всякое явление в мире превращается в символическую интенцию, в след утопии[603]. Отсюда же ключевая претензия Адорно: он упрекает Блоха в тотализации и инструментализации утопического. «Ведь сам след – это непроизвольное, невидимое, лишенное интенции. Нивелировать его до интенции – значит совершать над ним кощунство». И далее: «Надежда – это не принцип»[604]. Последний афоризм стал почти столь же известен, как и тезис о том, что целое неистинно. Так Адорно делает из Блоха (в его тяготении к системе) гегельянца самого дурного толка, который пребывает в плену «неснимаемой» антиномии, пытаясь построить «последнюю философию» и пользуясь для этого средствами «первой философии», превращая эсхатологию в принцип, начало мира, онтологизируя утопию, подводя разнообразие ее проявлений под единое основание. Адорно приходит к выводу, что у Беньямина, в отличие от Блоха, нет такого нелепого разрастания системного начала, и все мелочи так и остаются мелочами, не становясь столпами утопического синтеза[605].
Согласно Адорно, Блох слишком доверяет безнадежно испорченному миру, а ведь это мир отчаяния, мир, в котором от немецкого идеализма остался лишь непонятный шум. Следуя логике, которая использовалась выше, можно сказать, что Адорно – радикальный гностик (быть может, именно поэтому ему так нравился именно «Дух утопии» в его первоначальном, гностическом варианте?), а поздний Блох – скорее гегельянец.
Б. Шмидт приводит два аргумента против характеристик, которые дает Адорно. Во-первых, он говорит, что поворот Блоха к онтологии замышлялся как гипотетический проект (что ввиду категоричной стилистики поздних текстов представляется малоправдоподобным), во-вторых (и это, по-видимому, важнее), Блох в своей диалектико-материалистической натурфилософии воспевает человеческий труд и творческое субъективное начало, способное преобразовывать и достраивать действительность[606]. Вместо радикально неидентичного, которое притесняется идентичным, он выдвигает на первый план сам процесс идентификации, проблематичное, историчное, постоянно срывающееся и возобновляющееся отыскание, выговаривание идентичности[607].
На самом деле Адорно находится в не менее проблематической позиции, поскольку для него утопия оказывается настолько хрупкой, что, раз соприкоснувшись с действительностью, неизбежно овеществляется, оборачивается идеологией, обманом и в этой самодовольной тождественности – предательством самой себя[608]. Его критика рациональности (начатая совместно с Хорк-хаймером в «Диалектике Просвещения») находится в весьма двусмысленных отношениях с его рациональной методологией и идеалами, явно высказывать которые он не берется. И критическая теория становится не менее парадоксальным проектом, чем философия надежды во времена, надежды лишенные[609].
По-видимому, существенно то, что ни у Адорно, ни у Блоха не было последовательно выстроенной концепции рациональности, той самой новой рациональности, которую они хотели противопоставить и иррациональному мифу, и инструментальности идеологического господства, всякий раз ставящей в упрек утопии и критическому мышлению то, что они «не предлагают ничего позитивного». Что это за рациональность, которую М. Лёви именует «новым Просвещением» у Адорно[610]?