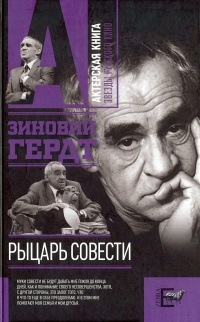Книга «Я был отчаянно провинциален…» - Фёдор Шаляпин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я был очень удивлен и даже несколько тронут их интересом ко мне, добросовестно рассказал им о своем рождении, женитьбе, вкусах, сообщил, что в тюрьме еще не сидел, и привел пословицу, которая рекомендует русскому человеку не отказываться ни от сумы, ни от тюрьмы.
— Ол райт! — сказали они и сделали «бизнес»: на другой день мне сообщили, что в газетах напечатали про меня невероятное: я — атеист, один на один хожу на медведя, презираю политику, не терплю нищих и надеюсь, что по возвращении в Россию меня посадят в тюрьму. Далее оказалось, что любезная предупредительность этих милых людей стоит некоторых денег, каждый из них представил мне небольшой счетец расходов на хлопоты по моему приему:
«Что город, то норов», — подумал я, но не оплатил счетов. Десять рук в один карман — это много! Остановился я в какой-то великолепной гостинице, роскошной, как магазин дорогой мебели. За обедом кормили крабами, лангустами в каких-то раковинах, пища была какая-то протертая, как будто ее уже предупредительно жевали заранее, чтобы не утруждать меня. Наглотавшись оной пищи, я пошел на 5-ю улицу смотреть многоэтажные дома крезов. Но оказалось, что гигантские дома находятся в Сити, деловой части города, а на 5-й улице все особнячки, довольно обыкновенной европейско-якиманской архитектуры. Город производил удивительное впечатление: все живое в нем стремительно двигалось по всем направлениям, словно разбегаясь в ожидании катастрофы. Ехали по земле, под землей, по воздуху, поднимались в лифтах на 52-й этаж, и все это с невероятной быстротой, оглушающим грохотом, визгом, звоном и рычанием автомобильных рожков. Над головой едут поезда электрической железной дороги — невольно натягиваешь шляпу плотнее, как бы не выкинули чего-нибудь на голову тебе.
Невольно вспоминалась Италия, где под каждое окно можно прийти с гитарой и спеть серенаду любимой женщине. Попробуйте спеть серенаду здесь, когда любимая женщина живет на 49-м этаже. Вокруг стоит такой адский шум, как будто кроме существующего и видимого города сразу строят еще такой же грандиозный, но невидимый. В этой кипящей каше человеческой я сразу почувствовал себя угрожающе одиноким, ничтожным и ненужным.
Люди бежали, скакали, ехали, вырывая газеты из рук разносчиков, читали их на ходу и бросали под ноги себе; толкали друг друга, не извиняясь за недостатком времени, курили трубки, сигары и дымились, точно сгорая.
Солнце светило сквозь дым и пыль, лицо у него было обиженное и безнадежное, точно оно думало:
«Лишнее я здесь!»
На улицах — ни одного воробья, хотя это самая храбрая птица на свете.
Шесть дней, в ожидании репетиции, ходил я по городу, заглядывая всюду, куда пускали.
Был в музеях, где очень много прекрасных вещей, но все вывезены из Европы. Наконец я в театре «Метрополитен». Наружный его вид напоминает солидные торговые ряды, а внутри он отделан малиновым бархатом. По коридорам ходят бритогубые, желтолицые люди, очень деловитые и насквозь равнодушные к театру.
Начали репетировать «Мефистофеля». Я увидал, что роли распределены и опера ставится по обычному шаблону, все было непродуманно, карикатурно и страшно мешало мне. Я доказывал, сердился, но никто не понимал меня или не хотел понять.
— Здесь тонкостей не требуют, было бы громко, — сказал мне один из артистов.
Единственным человеком, который поддержал меня и мои требования, был импресарио. Его разбил паралич, и на репетицию он был принесен в креслах.
Увидав, как я мучаюсь, он зычно крикнул режиссерам:
— Прошу слушать и исполнять то, чего желает Шаляпин!
После этого режиссеры пошли на некоторые уступки, но это не улучшило спектакля.
Нервно издерганный, я почувствовал себя больным и накануне спектакля послал дирекции записку, извещая, что не смогу играть, не в силах.
В виде ответа на мою записку ко мне явилась длинная и костлявая дама или барышня в очках, с нахмуренными бровями и сурово опущенными углами рта. Показывая на меня пальцем, она спросила о чем-то по-английски, — я понял, что она желает знать, я ли Шаляпин?
— Да, это я!
Я был в халате, за что извинился перед нею на хорошем русском языке. Тогда она красноречивыми жестами предложила мне лечь в постель. Я испугался, позвал слугу, говорившего по-французски, и он объяснил мне, что эта дама — доктор, ее прислала дирекция, чтобы вылечить меня к завтрашнему спектаклю. Я попросил сообщить доктрисе, что преисполнен уважения к ней, но не нуждаюсь в ее хлопотах, но дама все-таки настояла, чтоб я лег в постель. Лег я и с ужасом увидал, что почтенная докторша вынимает из своей сумки аппараты для промывания кишечника.
— Не надо! — взвыл я. — Я болен не в этом смысле, понимаете?
Нет, она не понимала! Тогда я взмолился:
— Буду петь, только уйдите от меня!
Ушла. Эта курьезная сцена, насмешив меня, несколько успокоила, и я спел спектакль довольно хорошо, хотя чувствовал себя измученным.
Но оказалось, что американская пресса предупредила общество, что я — обладатель феноменального стенобитного баса. Кому же неизвестно, какой силы басы водятся в России? Теноров там вовсе нет, а вот русский бас — это явление исключительное: нередко такие басы тремя нотами опрокидывают колокольни.
В театре, видимо, ожидали, что я выйду на сцену, гаркну и — вышибу из кресел первые шесть рядов публики. Но так как я не изувечил американских ценителей пения, то на другой день в газетах писали приблизительно так:
— Какой же это русский бас? Голос у него баритонального тембра и очень мягкий…
Но в общем пресса отнеслась ко мне снисходительно, хотя все-таки заявила, что «Шаляпин артист не для Америки». О характере моей игры, о моем понимании ролей ничего не говорили, говорили только о голосе.
Очень поразил меня такой случай.
У меня заболело горло, и я отправился к какому-то специалисту по горловым болезням.
Судя по обстановке, это был человек с большой практикой: великолепный кабинет, обставленный какими-то странными аппаратами и машинами, которые приводились в действие электричеством, все, окружавшее его, указывало на его научную солидность. Сам он оказался человеком очень внимательным, почтенным и милым.
Заплатив ему за визит, я предложил доктору ложу. Он любезно принял и спросил, что именно я пою?
— Мефистофеля в «Фаусте».
— Расскажите мне сюжет, прошу вас, — сказал он.
Я подумал, что он шутит, но оказалось, доктор действительно не знал «Фауста» Гуно и не читал никогда Гете!
Спектакли шли один за другим. Приехал знаменитый венский дирижер Малер, начали репетировать «Дон Жуана». Бедный Малер! Он на первой же репетиции пришел в полное отчаяние, не встретив ни в ком той любви, которую он сам неизменно влагал в дело. Все и всё делали наспех, как-нибудь, ибо все понимали, что публике решительно безразлично, как идет спектакль, она приходила «слушать голоса» — и только. Итальянцы артисты пробовали сделать что-нибудь получше, но самые стены Малинового театра охлаждали рвение.