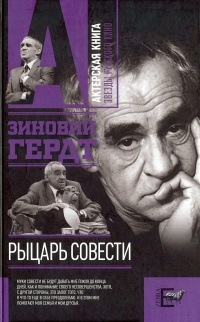Книга «Я был отчаянно провинциален…» - Фёдор Шаляпин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отправились охотно, прекрасно спели, потом я отвез венки Мусоргскому и Стасову[85].
Когда «Хованщина» прошла с выдающимся успехом в Петербурге, захотелось поставить ее в Москве, но, приехав в Москву, я тотчас узнал, что артисты волнуются, ожидая от меня каких-то невероятных требований. Пригласив к себе дирижера, я предложил ему просмотреть оперу совместно со мною, он любезно согласился на это. Мне казалось, что в интересах большего драматизма, большей выпуклости некоторые такты следует изменить, здесь — задержать, там ускорить.
Дирижер, указывая на пометки автора аллегро, модерато, — протестовал против моих указаний, не желая нарушать требования автора, но, в конце концов, согласился со мною.
Замечу, что вообще я строго придерживаюсь авторских указаний, только в этом случае решился незначительно отступить от них.
Однако на оркестровой репетиции я увидал, что дирижер помахивает палочкой с великолепным равнодушием, и музыка рассвета приобрела какой-то тусклый, грубый характер. Я обратил на это внимание директора одной высшей музыкальной школы, сидевшего рядом со мною, — он согласился, что дело идет плохо.
Вышел на сцену хор и начал петь врозь, небрежно, неодушевленно. Я сказал хору:
— Господа! Не пойте вразброд, будьте внимательнее, следите за оркестром!
Тогда дирижер заметил, что если хор поет врозь с оркестром, так это потому, что он больше «играет», чем поет. Слово «играет» было подчеркнуто, и я понял, что мое желание сделать массовые сцены более живыми не нравится дирижеру. Тогда я заявил ему, что хор не идет за оркестром вовсе не потому, что он играет, а потому, что дирижер не обращает на хористов должного внимания.
— Ах, так Вам не нравится, как я дирижирую? — воскликнул почтенный маэстро и, положив палочку на пюпитр, ушел, оставив оркестр без головы.
Некоторые из артистов проводили его аплодисментами, а по моему адресу раздались свистки. Репетиция остановилась.
Конечно, и я так же, как дирижер, мог уйти домой, но тогда спектакль провалился бы. Оперу я знал, сесть самому за пюпитр и продолжать репетицию? А вдруг музыканты, из сочувствия дирижеру, начнут играть фальшиво или вовсе не станут играть? «Очередной скандал Шаляпина» разрастется, но пользы делу от этого не будет.
Я решил телефонировать в Петербург, чтоб оттуда прислали другого дирижера, одного молодого и весьма талантливого человека. На другой день утром он был в Москве, и в 12 часов мы начали генеральную репетицию, а вечером должен был состояться спектакль. Репетиция прошла хорошо, все относились к делу внимательно, пели ритмично, и вообще все шло как-то необычно гладко. Газеты были наполнены заметками о деспотизме, грубости и неблаговоспитанности моей, это не очень уместное предисловие к спектаклю, требовавшему огромного напряжения сил, и это, конечно, настроило публику весьма враждебно ко мне.
Когда я вышел на сцену, публика сердито молчала. Нужно было победить это настроение, что, кстати сказать, вовсе не входит в цели искусства, как я его понимаю. Однако, когда я, под удары великолепного колокола, спел заключительную фразу:
— «Отче, сердце открыто тебе», — публика, очевидно, забыв мой «очередной скандал», наградила меня пламенными рукоплесканиями.
Я убежал в уборную и разревелся там.
Частенько мне приходилось реветь и волком выть, но это я делал один на один, сам с собою, публика же знает по газетам только о том, как я дебоширю. Ну что же делать? Я не оправдываю себя — знаю, что это бесполезно. Но невыносимо тяжело бывает мне порою, господа! Уж очень несоизмеримо противоречие между тем, чего хочется, и тем, что есть. И поверьте, что, когда чувствуешь себя царем, дьяволом или мельником, — вовсе не легко и не приятно в те же самые минуты чувствовать вокруг себя злейшую обывательщину, небрежнейшее и казенное отношение к твоим святыням.
Пение — это не безделица для меня и не забава, это священное дело моей жизни. А публика рассматривает артиста, как тот — извините за сравнение — извозчик, с которым я однажды ехал по какой-то бесконечной московской улице.
— А ты чем, барин, занимаешься? — спросил меня извозчик.
— Да вот, брат, пою!
— Я не про то, — сказал он. — Я спрашиваю — чего работаешь? А ты — пою! Петь — мы все поем! И я тоже пою, выпьешь иной раз и поешь. А либо станет скушно и — тоже запоешь. Я спрашиваю — чего ты делаешь?
Я сказал ему, что торгую дровами, капустой, а также имею гробовую лавку со всяким материалом для похорон. Этот мудрый и серьезный извозчик выразил, на мой взгляд, мнение огромной части публики, для которой искусство тоже — не дело, а так себе, забава, очень помогающая разогнать скуку, заполнить свободное время.
Спектакли в Милане и Монте-Карло сделали меня довольно известным артистом, и поэтому я получил предложение петь в Нью-Йорке.
Я давно уже интересовался Новым светом и страной, где какие-то сказочно энергичные люди делают миллиарды скорее и проще, чем у нас на Руси лапти плетут, и где бесстрашно строят вавилонские башни в 60 этажей высотою. Заключив в Париже контракт, который обязывал меня петь «Мефистофеля», «Фауста», «Севильского цирюльника» и «Дон Жуана», я сел на пароход и через шесть суток очутился на рейде Нью-Йорка[86].
Думы о выступлении в суровой стране «бизнесменов», о которой я много слышал необычного, фантастического, так волновали меня, что я даже не помню впечатлений переезда через океан.
Прежде всего мое внимание приковала к себе статуя Свободы, благородный и символический подарок Франции, из которого Америка сделала фонарь. Я вслух восхищался грандиозностью монумента, его простотой и величием, но француз, который всю дорогу подтрунивал над моими представлениями об Америке, сказал мне:
— Да, статуя — хороша и значение ее — великолепно! Но — обратите внимание, как печально ее лицо! И — почему она, стоя спиной к этой стране, так пристально смотрит на тот берег, во Францию?
Но скептицизм француза надоел мне еще дорогой, и я не придал значения его словам. Однако почти тотчас же я познакомился с тем, как принимает Америка эмигрантов из Европы, — видел, как грубо раздевают людей, осматривают их карманы, справляются у женщин, где их мужья, у девушек — девушки ли они, спрашивают, много ли они привезли с собой денег? И только после этого одним позволяют сойти на берег, а некоторых отправляют обратно, в Европу. Этот отбор совершается как раз у подножия величавой статуи Свободы. Уже на пристани меня встретили какие-то «бизнесмены» — деловые и деловитые люди, театральные агенты, репортеры, — все люди крепкой кости и очень бритые, люди, так сказать, «без лишнего». Они стали расспрашивать меня, удобно ли я путешествовал, где родился, женат или холост, хорошо ли живу с женой, не сидел ли в тюрьме за политические преступления, что думаю о настоящем России, о будущем ее, а также и об Америке?