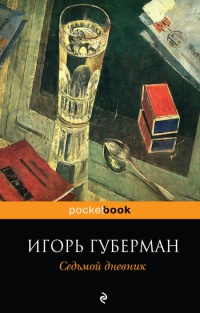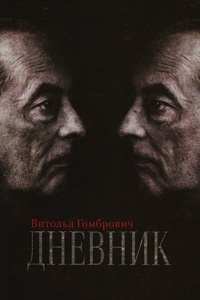Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На Привоз идем с тестем, который терпит меня только ради любимой дочки. На ходу стопроцентно русский Коншин, которого в Одессе знали все, перебрасывается с возчиками и грузчиками какими-то насмешками на идиш, я в нем не понимаю ни слова. Кроме общеупотребительных “зай гезунд”, “лехаим” и “тохес”.
И конечно же, я искал среди возчиков Мендела Крика.
Бабель. Волшебство его прозы! Мне не нужно было ждать его реабилитации до 54-го года, чтобы насладиться ей. Я уже с детства, с первых полузапретных книг существовал в его Одессе и воевал вместе с его “конармией”.
Его лицо. Сильный еврейский тип с мощной, выразительной некрасотой, которая, как у него или Михоэлса, привлекает едва ли не сильнее, чем ангельские черты.
Много позже я догадался, что “Закат” — это пьеса не столько о том, как человек хотел преодолеть старость, а о том, как еврей хотел стать русским и не смог. Потому что это невозможно, “жидовский суп” в жилах — это, оказывается, слишком сильно.
В 1989 году молодой и очень способный, как я понял по двум его короткометражкам, Саша Зельдович, с которым меня свели на “Мосфильме”, предложил мне экранизировать “Закат” для его полнометражного дебюта.
Я-то с вгиковских времен мечтал о “Конармии”.
Мне почему-то кажется, что Бабель подписал себе смертный приговор не тогда, когда вольно жил в Париже, не когда дружил с Мальро и наставлял рога наркому Ежову. А когда писал “Конармию”. Мало кто за невероятными ее строками почувствовал тогда страшную печаль, трагизм и обреченность.
Особенно в опубликованных его дневниках “конармейского” периода постоянен этот с трудом скрываемый ужас перед гибелью еврейства — как в хмельнитчину — от рук и сабель всех цветов и языков.
Я так никогда и не получил “Конармию”, очень жаль. Но на предложение Зельдовича откликнулся сразу. И мы с ним стали работать на мосфильмовское объединение Вали Черных — киностудия “Слово”, где главным редактором был Валерий Семенович Фрид.
Саша был очарован постмодернизмом, который тогда победно врывался в постсоветское кино, я был очарован Бабелем. Совместить это было не так просто, и потери от этого заметны. Но молодая наглость Зельдовича, дивная музыка Лени Десятникова, виртуозная камера Саши Княжинского и потрясающее рукоделье художника Марксена Гаухман-Свердлова все же сделали кое-какое свое дело. И конечно, актеры. Рамаз Чхеквадзе — Мендел Крик и Виктор Гвоздецкий — Беня.
Фильм-фантазия — так в “Википедии”. Ну, что ж, нехай буде фантазия.
Ужасно вдруг захотелось в Одессу! “Ах, Одесса, жемчужина у моря!”
Всю Молдаванку, пыльную и орущую, исходил собственными ногами, когда писал очерк для “Смены” об одесском партизанском подполье. И, между прочим, в катакомбах провел ночь вместе с ребятами из группы “Поиск”. Жил так же и на знаменитой Мясоедовской, жемчужине Молдаванки. “Есть у нас в районе Молдаванки / Улица отличная, друзья”…
У меня была своя компания. Гарик… Толик… Вадик… Меня забавляло, что у них, как вообще у одесситов, нет комплексов неполноценности. А их забавлял мой “московский акцент”, и они никак не хотели поверить, что я знаком с Высоцким.
Ходил в знаменитую Оперетту на Водяного и Крупника и в Русский драматический театр им. Иванова, а в Оперный не ходил. Жарился на солнце в Аркадии по десять часов кряду, бездарно играл в преферанс на пляже и бесстрашно прыгал с пирса. Спускался в сомнительные подвалы, где заседали одесские опасные уличные звезды, друзья моих друзей. Войдешь и не выйдешь, если не понравишься. А я таки мог не понравиться.
Попадал в ментовку на Греческой. И, пока моя компания шла в Лондонскую пить мускатное шампанское под сенью платана, помнящего Пушкина, томился с Алёшкиной коляской в садике на Кирова, где стоял, как я его прозвал, “памятник неизвестному голубю”.
Я был одессит, черт возьми!
Как много воспоминаний приносит ветер, особенно если он вдруг пахнет морем — тем морем — желаний, — любимым одесским морем.
И как купались ночью голые — на Бугазе — в светящейся, насыщенной синей тьме с белым курчавым прибоем и прожекторными — пограничными — лучами, препарирующими тьму. Как смотрели на голые яркие тела своих смеющихся подруг, стоящих по колени в черной морской массе, беззлобно бросающейся на них…
“В Одесской области на пляжах Каролино-Бугаза установлены противотанковые ежи…”
Наброски из ненаписанного романа
…И он опять был на Светящейся горе. В дом Главного режиссера Сашку “подбросили” с вечера, чтобы девочка-дочка не оставалась ночью одна. Взрослые вчетвером — пик, кульминация дружбы семей, которая потом разрушилась вмиг, — отправлялись в Дом офицеров. Новый год? Старый год?
“Итак, случилось это в незапамятные времена, когда на склоне Нелепостей в горах Великих вымыслов…”
Наброски из ненаписанного романа
Девочка сидела, обхватив ножки обеими руками, кольцом, сцепив пальцы, положив щеку на коленки, такая лягушечка. Ему ужасно хотелось потрогать ее бритую головку, он даже знал, какое будет ощущение — в одну сторону шелковое, в другое колкое. От соприкосновения ее головки с его ладонью могло произойти что-то необычайно нежное и прекрасное. Но она доверчиво шепчет ему на ухо: “Я пописать”. И опускает босые лапки на пол. Ему почему-то показалось, что у них — между белыми пальчиками — возникают — вырезанные одним мгновенным полукруглым движением ножниц — перепонки, как у водоплавающих, из той же белой — высшего сорта — кожицы. И когда он останется один, ему вдруг захочется плакать. Почему? Может быть, потому, что они оба такие маленькие и одинокие в этой жизни.
— Мама говорит, я худая до ужаса. Ты тоже худой.
Он стоит к ней спиной, расстегивая рубаху. Ее глазок любопытно смотрит на него через щелку в двери.
— Спи! — мрачно, не обернувшись.
Выключил свет, в темноте сел на диван, расшнуровал ботинки, посмотрел на свои белеющие на коврике ступни, пошевелил пальцами, расправил пальцы, чуть потянул носом — усмехнулся и лег, накрывшись с головой пледом.
— Храни тебя Господь, — голос девочки из соседней комнаты.
Удивился, улыбнулся и опять захотел заплакать.
И они заснули кротко, как друзья, как близкие. Девочка и мальчик, два отделенных от всего мира только тонкой — обнаженной — шкуркой, кожицей, два худеньких, длинненьких послевоенных кранаховских тельца под одеялом темноты.
Под утро в двери осторожно начал поворачиваться ключ. И темнота, в мгновение распавшаяся на короткие, хищные осторожные движения, сняв туфли, стала тихо шагать к ним, спящим, по квартире. Журавлиное — будто нарисованное — движение в темном воздухе. Поднятое колено и посылаемая вперед нога, гладящая темноту своей стопой в блестящем скрипучем чулке. Тяжеловатый запах вина, уже успевшего перебродить в желудке, из приоткрытого накрашенного — темной — черной сейчас — помадой рта. А ноздри, чуть раздуваясь, по запаху надеются определить, что здесь что-то было — необычное, запретное, пахучее, порочное, что на самом деле она любит больше всего. Когда же она споткнется о забытую детьми на ковре монографию Боттичелли, она увидит, как, разочарованно улыбаясь, уползает и прячется внутри змей…