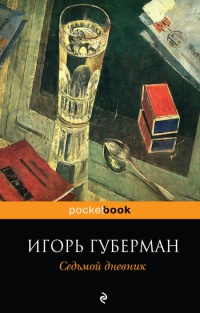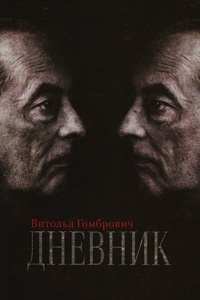Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мы с Сашей всегда при встречах вспоминали некую благородную кобылу Архангелку, которая привезла нам, вдвоем зацепившимся в “одинаре”, не слишком большой, но все-таки “котел” в “дубле”. Всей компанией, вместе с художниками, отправились пропивать “котел” в ВТО, а уже потом каким-то непостижимым образом оказались в новой квартире Жени Урбанского, которому оставалось жить очень недолго, до ноября.
В ВТО в одиночку я проходить не мог, как бы ни унижался перед старым садистом швейцаром дядей Володей. Но слышал от него только роковое: “Театральное удостоверение!” Однажды ночью, выйдя из ресторана, куда попал, наверное, с Валей Туром, членом всех мыслимых Союзов, я увидел Володю на улице и льстиво предложил подвезти на такси. Он милостиво принял предложение. В машине я его спросил с надеждой: “Ну, что, дядя Володя? Будешь теперь пускать?” И что он ответил? Правильно! Голосом попугая:
— Театральное удостоверение!
И вот по ночам, засыпая, я представлял, как получаю Ленинскую премию — неважно, за что, — прихожу в ресторан с золотой медалью на груди и дядя Володя распахивает передо мной двери рая.
И кружилась-вертелась, как воздушный шарик, дивная, легкая — недолгая — веселая жизнь. То, что я потом, сочинив какую-то заявку, назвал “вольная городская жизнь”. Наша молодость бросала нас, как Иванушку-дурака, из котла с кипятком в котел с ледяной водой, да еще и в кипящую смолу, да еще и в кислоту. Кое-кто сварился, кое-кто растворился. Но, к счастью, некоторые вышли если и не красавцами, но все же в силах подбочениться, заломить шапчонку набекрень и топнуть ножкой.
Фестиваль. Редакция “Спутника”. Кафе “Националь”. Типография “Известий”. Пресс-бар в гостинице “Москва”, куда, на седьмой этаж, поднимаешься в лифте с Джиной Лоллобриджидой, не в силах отвести взгляд от ее груди, или с Раджем Капуром, которому кто-то веселый и пьяненький напевает по дороге — в лифте — из “Бродяги”: “Авара му, авара му…”
И не знал я тогда, не догадывался я, что одна из гарпий-ведьм уже кинула в котел какой-нибудь там корень мандрагоры, на котором особыми каббалистическими знаками была обозначено: “Шлепянов — Вайншток — Кино”.
Кино, кино! Проклятие мое! Обольщение и разочарование!
Напророчила, сука!
Какую картину увидел первый раз в жизни? Да, “Первая перчатка”! С Переверзевым и Володиным. “Если хочешь быть здоров, закаляйся”.
Мы шли втроем — в кино — Василиса, дядя Шура и я, шестилетний. Василиса, маленькая пожилая красивая хохлушка с раздвоенным на кончике острым носиком. Еще девочкой служила у бабушки Елены Марковны в Елисаветграде, так и осталась с нашей семьей. Дядя Шура, огромный добрый пожарный, ее муж. Жить им в Москве было негде, и они жили у нас на кухне. За это Василиса помогала маме. Как дядя Шура, который был в два раза больше трехметровой кухни с газовой плитой и столом, помещался в этом ограниченном пространстве — загадка. Или природы, или науки.
Я любил дядю Шуру. Я просил, чтобы он меня купал, мне с ним было хорошо и весело. В ванную ставилась жестяная ванночка, туда наливалась вода, мама пробовала температуру локтем. Могучий дядя Шура снимал с себя зеленую гимнастерку, раздевался до пояса. И я восторженно объяснял ему, что он Геркулес.
Он болел за “Локомотив” и раза два брал меня на стадион “Сталинец”, что в Черкизове. Но чаще он уходил на футбол без меня и возвращался невероятно пьяный. Сколько же нужно было влить в себя, чтобы опьянить такую массу? Дома он сразу в знак полной покорности и раскаяния ложился на пол. Маленькая Василиса прыгала ему на грудь и танцевала на нем с пронзительными криками: “Ах, убейте вы меня железным камнем!”
Никак я не мог тогда понять, почему нужно было убивать ее, а не провинившегося дядю Шуру. Но спросить ее об этом стеснялся.
Будучи от природы человеком более или менее смышленым и впечатлительным, я имел возможность приспособить свои способности, естественные для интеллигентного человека, к различного рода гуманитарным занятиям. Я приспособил их к кино. Только и всего.
“Что Бог ни делает, все к лучшему”. К лучшему для кого? К лучшему для Него, для Бога? Но “лучшее” для Бога совершенно не обязательно “лучшее” для человека, как и наоборот — “лучшее” для человека вовсе не “лучшее” для Бога. Вот тут и разберись!
Еще до того, как я, уже ангажированный Вайнштоком, отправился в Ялту писать первый после окончания ВГИКа — полнометражный — сценарий — о женитьбе Достоевского, я женился сам, во второй раз. На этот раз в Одессе, сменив прохладное Балтийское на теплое Черное. И это был хороший выбор. На целых тринадцать лет. Я имею в виду море.
Главным достижением “одесского периода” явился сын. Явился он, надо сказать, с большим трудом. Мы с его дедушкой Коншиным рано утром сидели в машине перед роддомом и, ненадолго объединенные равенством переживания, гадали — родится или нет. Нора была маленькая, а у будущего чемпиона СССР по стрельбе была на редкость здоровенная башка. Врач, огромный одесский бугай, просто сел могучим задом на Нору и выдавил его на свет. К моей непреходящей радости.
Прокисший и холодный запах одесских бодег по дороге в приморский парк Шевченко — на футбол. За копейки там можно было получить стакан убийственной “смеси”, то есть напополам портвейна и белого вина. Однажды там некто с уголовной страшной рожей — при общем немом восхищении, — опрокинув в себя граненый стакан, мрачно схрумкал его на закуску и спокойно заглотил все до последнего осколочка, до последней смертельно острой крошки. А на стадионе над блатными местами, где располагалась наша компания, обычно витал легкий наркотический туман. Надышешься после стаканов пяти “смеси” — и такой приятный получается футбол.
Устриц нам заменяли раки. В рыбном ряду на Привозе ведро раков — хотите черных лиманских? Таки они ваши! — трешка всего. Не говоря уже за мелкие черноморские креветки, они же “рачки”, и за сухой “бичок”, что шел по пятьдесят копеек снизка.
Дорога на Привоз по нашей Красноармейской, то есть Преображенской. Ближе к рынку, по левую руку — в ряд мебельные комиссионные. Тяжелая мебель со слоновьими ногами выставлена на улицу. Грузчики и возчики, потомки балагул, королей извоза, огромные евреи с кирпичными рожами и ручищами, закусывают с вином тут же, развернув газеты с черными, жирными пятнами масла.