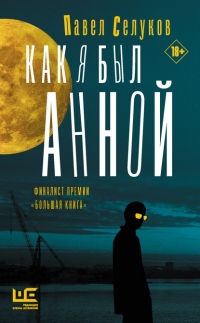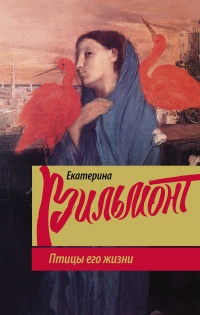Книга Дочери смотрителя маяка - Джин Пендзивол
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Есть еще одна часть истории, которую я должна тебе рассказать, — говорю я.
* * *
На следующий день после рождения Анны я проснулась утром раньше Эмили. Утро было столь раннее, что ночь еще отчаянно цеплялась за его край, серая и молчаливая, не желая уходить. Было тихо; птицы пока не начали щебетать, придерживая свои песни до того момента, когда на востоке солнце появится над горизонтом, рассеивая темноту. Но света было достаточно, чтобы видеть. Эмили свернулась калачиком возле меня, ее черные волосы рассыпались по белой подушке, одна рука свисала с кровати и, как я полагаю, лежала на самодельной колыбели ребенка. Я сразу почувствовала, что что-то не так. Было слишком тихо. Слишком спокойно.
Маяк.
За все годы, проведенные на Порфири, во время всех бурь, несмотря на болезни и невзгоды, мы ни единого раза не позволили лампе маяка потухнуть. До этого момента.
Я выскользнула из постели и стала пробираться сквозь тени, висевшие в комнате и опутавшие мое сердце. Я знала, что они сделали. Я знала еще до того, как полностью смахнула паутину сна со своего разума, но я не могла заставить себя это осознать. Это было немыслимо. Это было более чем жестоко. Я не могла представить, чтобы Чарли, даже тот Чарли, который вернулся домой с войны, у которого раны сердца и разума были намного серьезнее, чем какие-либо раны его плоти, был способен поступить настолько подло. А мать, которая выкормила нас своей грудью, как она могла вступить в такой сговор?
Тогда я увидела ее. Она сидела в кресле. Мать не спала, она наблюдала за мной, когда я опускалась на колени на грубый деревянный пол, где стояла колыбель с нашим ребенком — нашей Анной. Я безуспешно шарила в ней, поднимая одеяло, двигала тазики, которые использовала, чтобы помыть Эмили, отодвигала занавеску, отгораживающую другую кровать, на которой спала она с папой. Она смотрела на меня, ее глаза были печальны и полны жалости, но подбородок был упрямо вздернут, губы сжаты в тонкую линию. И тогда я вспомнила. Я вспомнила ночь в конце лета в тот год, когда Чарли стал ходить в школу в городе, когда луч маяка метался по комнате, а голоса моих родителей невольно доносились до меня: Мы обрекли их обеих. Эмили никогда не будет нормальной.
Теперь я поняла. Эмили горевала по своей сестре-двойняшке. Она скорбела по Элизабет, похороненной под кучей поросших лишайником камней. Она была неполной, одной ногой на том свете. Духом в мире живых. А я была жалкой заменой, жертвенным приношением озера. Все эти годы. Как я этого не замечала? Вот почему Эмили уходила, блуждала по острову, подвергаясь всем его опасностям в виде утесов, воды и диких животных. И мужчин. Мальчиков.
Ты должен был позволить ей умереть.
Мать никогда бы не приняла ребенка Эмили.
— Что ты с ней сделала? — попыталась прошептать я, но гнев во мне бурлил, и слова звучали резко, застревали в горле и душили меня.
Эмили пошевелилась, ее рука скользнула в колыбель.
— Ей будет лучше вдали от острова. — Голос матери был бесцветным, тон — пренебрежительным.
— Лучше вдали от матери?
Мать хмыкнула и сказала:
— Ее мать неспособна позаботиться о себе, не говоря уже о ребенке.
— Она мой ребенок настолько же, насколько и Эмили, настолько же, насколько мы с Эмили одно целое. Как ты могла забрать ее у меня?
Она медленно, тяжело встала.
— Это не твой ребенок.
Она повернулась ко мне спиной, пошла к лестнице и стала неспешно, размеренно подниматься по ступенькам. Дело было сделано. Она решила, что пришло время заняться маяком, хотя осталась всего пара часов до того, как взойдет солнце. Ее заставляла это делать прирожденная добросовестность, она снова стала внимательной и ответственной. Мать шаркала ногами, поднимаясь по лестнице.
Я не сдвинулась с места. Я все еще сидела на полу рядом с кроватью. Ее шаги звучали глухо, пока она взбиралась все выше.
— Ты ошибаешься. — На этот раз я не шептала. — Она наша, моя и Эмили. У тебя нет права!
Эмили проснулась. Она села на кровати, ее взгляд метался по комнате, она увидела меня, сидящую на полу, услышала шарканье матери, поднимавшейся по ступенькам, тишину неработающего маяка, ощутила тающее тепло едва мерцающих в печи углей. И, поняв, что Анны в доме нет, подтянула колени к груди и начала раскачиваться из стороны в сторону.
Мать продолжала подниматься по лестнице.
— Где она? — Я уже кричала, мой голос пронзил рассвет, отразился эхом от скал, пронесся над озером.
Она все еще поднималась.
Я бросилась наверх по ступеням, перескакивая через одну. Шаркая, мать поднималась быстрее, чем я думала. Я догнала ее, когда она уже была наверху. Она заправляла лампу; открыв канистру с топливом, она отлила немного из нее в резервуар. Стоя ко мне спиной, она поставила канистру на пол и взяла с полки коробку со спичками.
* * *
Я замолкаю. Даже не знаю, тут ли еще девушка. Она молчит. Слушает? Я никогда раньше не произносила этих слов; произносить их — значит, делать их реальными, а я боюсь этого. Я позволила им прятаться в темных глубинах моего разума, похороненными, покрытыми пылью и безмолвными — я не смогу их игнорировать, если придам им форму и наполню звучанием. Я никому этого не рассказывала.
Я часто вспоминала о том дне. Меня преследовали кошмары. Я снова и снова проигрывала мысленно эту сцену, проживала ее в темноте тысяч ночей. Я помню. Но не уверена, что помню правду. Это похоже на кошмарный сон, после которого просыпаешься среди ночи взмокший и с бешено стучащим сердцем. И, лежа в темноте, пытаясь снова уснуть, ты воссоздаешь свой сон, пока у него не появляется подходящее окончание, такое, которое не будет тебя преследовать, и только тогда ты можешь снова задремать, позволив остаткам сна рассеяться, словно утренний туман. Может, я придумала правду? Ту, с которой смогу жить? Может, я переживала этот момент столько раз, что моя выдумка стала моей правдой — той правдой, которую я приемлю? Нужно быть честной. Я не знаю. Я не знаю, в чем правда. Я не знаю, кто зажег спичку. Не знаю, как пролилось топливо. Не знаю, я толкнула ее или она толкнула меня. Я не знаю.
И я продолжаю.
* * *
Она открыла коробку, взяла спичку и повернулась ко мне. Меня всю трясло, во рту так пересохло, что было трудно произносить слова.
— Где она?
Внизу моя прекрасная тихая Эмили издавала странные звуки, она, спотыкаясь, металась по комнате, и я знала каждое ее движение, будто это происходило у меня на глазах, просто определяла их по звукам, которые эхом поднимались по лестнице; стулья с грохотом падали на деревянный пол, папины книги слетали с полок, бились тарелки, дребезжали горшки. Она искала, так же как и я.
— Где она?
Я подошла ближе и взяла мать за руку. Она отстранилась, повернулась к лампе и чиркнула спичкой по боковой поверхности коробочки. Я смотрела, как сначала вспыхивали искры, а потом спичка зажглась, и яркий желтый огонь стал гореть ровно. Мать сосредоточилась на калильной сетке, она стояла ко мне спиной, так что я не видела ее лица. Она меня игнорировала. Дело было сделано. С этим покончено. Мы будем продолжать выполнять свои обязанности. Чарли, став смотрителем, будет зажигать знаменитый маяк на озере Верхнее, предостерегающий от опасностей, освещающий путь всем судам, так, как мы делали это тысячи и тысячи ночей. Мы будем хоронить наших мертвых и белить здания, полировать большую стеклянную линзу. Мы будем рыбачить и охотиться, садить картошку. И Эмили будет блуждать, а я буду ее находить. Я всегда буду ее находить. Она во мне нуждалась.