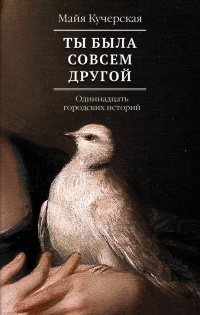Книга Кто боится смотреть на море - Мария Голованивская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Как с акциями «Стил»? – спросил Смирнов, входя в приемную и ослабляя узел на галстуке.
С утра он затянул его так, словно хотел удавиться. Опрокинул по дороге в ванную стакан с барной стойки – распять дизайнера! – наступил на осколок, запрыгал на одной ножке, оставляя кровавый, похожий на отпечаток куриной лапки след. В ванной залил одеколоном и залепил. Не дохнуть же от заражения крови?! Надо иначе. В ванную при спальне он идти не хотел, там были Наташины духи, Наташины кремы, серебряный стакан с кисточками, халаты, один шелковый с красным попугаем на спине. «Жить с тобой не хочу больше ни за какие деньги, – выводил ее аккуратный, красивый, среднего размера почерк с завитками у “д” и “л”, – будь ты проклят, Смирнов, импотент хренов!» Лежало на подушке. Будто она шмальнула, но промахнулась. Черт с ней, буквально. Черт с ней заодно. Утаскивает с этого света на тот когтистой лапой. Не за что ухватиться, везде дыра. Словно дышит кто-то в спину. Когда подозревали у него рак простаты пять лет назад, она исхлопоталась, исстаралась, рассыпалась в тысяче мелких и крупных забот, а тут – навылет. Ты навылет, Смирнов!
И не в том дело, что обвал. А в том, что незачем вставать, не хочется. Кончился завод у зайки, не бьет больше в барабанчик, не прядет ушками. «Кончиться может доска!» Вот именно, кончилась. И ладно – кредиторы, журналисты, смешки в спину. Запьем, заедим. Ну что, не было этого раньше, в девяностые, нулевые? Но тогда шерсть была дыбом, а сейчас нету шерсти, повылезла, и деньги не радуют, и их отсутствие не бодрит. Конец сценария. Жирная точка, ХХХХХХ.
– Пятьдесят девять с четвертью, – ответила одна из двенадцати секретарш в приемной, именуемой у него, на манер кремлевской, «номер один».
В щелканье мышек и клавиатур ему померещился джазовый ритм. Он не выносил джаз, считал его галиматьей для черных. Как будто резкий порыв ветра качнул штору, и белый июньский луч рассек приемную по диагонали, но откуда тут ветер, ведь в «Москва-Сити» окна не открываются, да и жалюзи – не занавески… Глянул в окно: небоскребы и кусок кольца, забитого машинами. Отвернулся. Затошнило. Телефоны девиц шипели и щелкали без умолку, экраны в приемной и у него в кабинете показывали одно и то же – котировки, колонки цифр, ползущие, как змеи, снизу вверх.
– Ну как «Стил»? – снова спросил Смирнов.
– Пятьдесят девять, – ответила Линёва, старшая по сегодняшней команде секретарей.
Она на минуту перестала что-то печатать и подняла глаза на молодого француза, недавно нанятого Смирновым управляющим. Он вошел в приемную с каменным лицом и, увидев Смирнова, стиснул голову руками.
– Merde! – завыл он. – Merde de merde et tas de merde!!![3]— Линёва отметила, что он забыл застегнуть ширинку – виднелась полоска красных шелковых трусов. Плохой знак, подумала Линёва, он всегда такой напомаженный.
– А «Кэнникот»? – спросил Смирнов.
– Двадцать восемь, – сообщила Линёва.
За дверью послышался громкий свист с причмоком – так обычно чихал Гарри Купер, финансовый директор корпорации. Через минуту он стоял в приемной с красным, как свекла, лицом и совершенно мокрой рыжей бородой и бакенбардами. Пот катился по его лицу, и он уже даже не трудился вытирать его таким же мокрым платком, судорожно зажатым в кулаке.
– Вы больны? – поинтересовалась Линёва. Тот факт, что Смирнов несколько лет назад спал с ней, позволял ей говорить с менеджментом на равных.
– Криз, – отрезал Купер. – Едва жив.
– Пошли в кабинет, – сказал Смирнов. Войдя, плеснул всем коньяку.
– Цирк! – прошептал Купер. – Обвал на сорок шесть процентов. Я бы казнил аналитиков на площади.
– Да, это кризис! – сказал Смирнов и вышел в апартаменты при кабинете. Затошнило опять. Еле добежал до туалета.
– Погорел, бедняга! – произнес Гарри Купер.
– Да, – кивнул француз, – он влил последние деньги. Мне рассказала Natacha. Она ушла от него, нету больше смысла… Ты, Купер, по своим старым клиентам информацию распространил? Может, кто купит его по дешевке?
– С русскими больше никто не хочет, – отрезал Купер. – Покупают без разбора, а потом – пулю в лоб. Невозможно. На прошлой неделе сколько было случаев?
Француз почему-то улыбнулся, и крошечный его подбородок совсем ушел вниз, за кадык. Куперу показалось даже, что у него нет половины лица.
– Линять пора, – вздохнул Гарри. – Пойду я. И ты иди, выруби телефон, мой тебе совет.
Он вышел из кабинета и сел в лифт с красивыми бронзовыми дверями стиля ар-нуво, купленными Смирновым несколько лет назад на аукционе в Лондоне за бешеные деньги. В нем ехали начальник кадровой службы и его секретарша, для которой этот лифт был не по чину.
– Down, – скомандовал Купер лифту.
– Как «Стил»? – спросили кадровики почти хором.
– Пятьдесят девять, – ответил Купер.
Смирнов, вернувшись в кабинет, обнаружил его пустым. Стаканы, мокрый платок на столе, и никого. Да и слава Богу. Пусть проваливают, пусть черти их сожрут, распухли здесь, разжирели, как черви, презентациями обложились. Thank you for your attention! Смайлики, а не мужики.
Он вышел на набережную и зашагал куда глаза глядят. Зелень, небо, река – утешающая формула, в такт шагам. Увидел вход в метро. Сколько он не был в метро – двадцать лет, двадцать пять? Он нащупал в кармане монету, подошел к окошку, протянул: «Один билет!» – «Молодой человек, – закричал ему в лицо динамик, – билет пятьдесят рублей!» «Пятьдесят?» – изумился Смирнов. Он помнил по пять копеек.
С собой у него был только кошелек с кредитками.
– А где здесь банкомат?
– На той стороне улицы, – ответили хором динамик и женщина в линялой зеленой ветровке, что стояла за ним и пахла потом.
Смирнов застонал.
– Вот, возьмите, – перед его носом возникла пятидесятирублевка.
Он повернул голову. Бледное лицо. Волосы, растрепанные ветром. Морщины у губ. Улыбка. Очки. Он взял, не поблагодарив от растерянности. Пошел к эскалатору, остановился, набрал маму.
– Мам, у тебя пенсия какая? Официальная, я имею в виду. Двенадцать тысяч?
Смирнов катался по Кольцевой и изо всех сил тужился вспомнить молодость. С усилием, с которым в детстве допиваешь горькое лекарство, под уговор: допей, мой хороший, и тебе легче станет. Но воспоминания не вылезали, никак не получалось преодолеть себя, все было тошно: и эти пышнотелые станции с фигурами и мозаиками, и эти люди с наушниками, и объявления на стенах. Потом кто-то рявкнул на него, что хорошо бы женщине место уступить, и он нехотя поднялся, желая только одного – в морду дать. Мать только жалко, не переживет она. Ну, оставил я ей денег, но кто утешит ее?