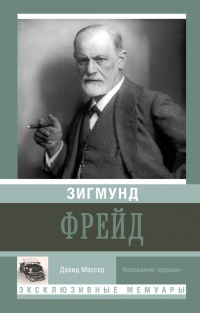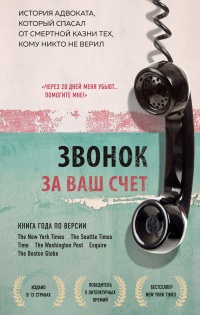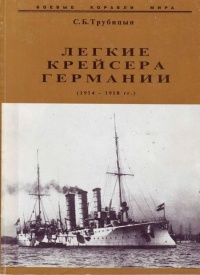Книга Апокриф. Давид из Назарета - Рене Манзор
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лонгин кивнул в знак согласия, впечатленный зрелостью его рассуждений. Похоже, мальчик превратился в мужчину.
– И куда же ты направлялся? – поинтересовалась подошедшая к ним Фарах.
– К себе домой, в Палестину. Я нужен Господу… Для чего? Будет видно.
– Тебя же там ищут, – заметил центурион.
– Моего отца тоже… искали. А он… продолжал выполнять свою миссию.
– Тогда я пойду с тобой, – заявил Лонгин.
– И я тоже, – подхватила Фарах не раздумывая.
– Нет, – категорически запротестовал юноша. – Те, кто меня защищают… расплачиваются за это своей жизнью: моя мать, дядя, бабушка и дедушка… Я не хочу, чтобы и с вами это случилось.
– Это делает тебе честь, Давид. Но нужно, чтобы я был рядом с тобой, следовал за тобой, причем неотступно. И больше не делай так, чтобы мне приходилось за тобой гнаться. Я уважаю твой выбор, а ты должен уважать мой.
– Ты хотел сказать наш, – уточнила Фарах, как бы невзначай опираясь на плечо трибуна.
Давид посмотрел на них и понял, что переубеждать их напрасный труд. Тогда он, с трудом поднявшись и глядя центуриону в глаза, заявил:
– Но с одним условием… Ты будешь называть меня Давидом.
Трибун улыбнулся и протянул ему руку:
– По-римски, Давид.
– По-римски, Лонгин.
И под взглядом растроганной Фарах они пожали друг другу руки выше запястья, как это принято у легионеров.
Дамаск, Сирия
У него было такое ощущение, будто он всю жизнь прожил в темноте.
Раскрой глаза, – шептал ему чей-то голос из тьмы, но, несмотря на все потуги, ему так и не удалось разлепить веки. Их словно склеила вызывающая зуд пленка, которая уже стала расползаться по всему лицу. Савл пытался содрать ее, но от этого она лишь расползалась все дальше и дальше.
– Я больше не прикоснусь к ней, – пообещал он, все же касаясь ее.
Этот зуд доставлял ему больше страданий, чем отсутствие света.
Буря, бушевавшая, когда он ехал в Дамаск, сделала его слепым, она словно въелась в его глаза, не позволяя видеть. Тысячи песчинок забились ему под веки, и при каждом моргании возникала такая боль, как если бы веки были из наждака. Первое время из его глаз лились кровавые слезы. Потом кровь свернулась, погрузив глаза в черноту, как будто в траур. Время от времени возникали светлые пятна, они парили вокруг него, словно призраки, явившиеся требовать расплаты. Они походили на назарян, которых он подвергал пыткам. И только их страдания ему было позволено видеть.
Как долго он еще будет слеп, чтобы раскаяться?
Угрызения совести наверняка начнут терзать его, когда придет время покинуть этот мир. Это всегда происходит в такой момент.
А если они не начнутся? – прошептал тот же голос из окружавшей его тьмы.
Откуда берется этот шепот? Неужели это то, что называют совестью?
Лишенный возможности видеть, Савл не имел ни малейшего представления о том, в каком месте он находится и как много времени здесь провел. В этой его темнице не было ни потолка, ни стен, ни двери, один лишь соломенный тюфяк он мог осязать.
Внезапно смерть показалась ему единственным выходом из создавшегося положения.
У мертвых глаза открыты, – подтрунивал над ним голос. – Чего же ты не откроешь свои?
– Я не сумею этого сделать, – запротестовал он. – Не сумею.
А сколько попыток ты совершил, что убедил себя в этом?
Был ли это мужской голос? Или женский? Невозможно было понять.
– Кто ты? – спросил Савл.
Тот, кого ты преследуешь, – ответил голос.
– Иешуа? – допытывался обреченный на слепоту.
Ты потерял душу, Савл. Чтобы обрести ее вновь, ты должен раскрыть глаза на все то, что совершил в прошлом, не пытаясь отвести взгляд в сторону.
Тарсиец начал хватать руками пустоту, что была перед ним, в попытках схватить своего невидимого гостя, но перед ним ничего не было.
– Ты и в самом деле Иешуа? – задал вопрос Савл.
А ты и в самом деле слепой?
– Нет, все это просто кошмар! – взорвался он. – Какое-то представление, устроенное для того, чтобы я лишился рассудка!
Если это кошмар, открой глаза.
– Я открою глаза, когда проснусь.
Ты откроешь глаза, когда прекратишь лгать, Савл, когда ты согласишься увидеть себя таким, какой ты есть. Тебя зовет ад. Твоя ложь толкает тебя туда. Открой глаза. У тебя это получится.
Он осторожно поднял руки к глазам… но вызывающая зуд пелена все так же не позволяла что-либо видеть. Тогда, стараясь приспособиться, его глаза попытались смотреть сквозь веки, преодолевая этот телесный барьер. Постепенно в потемках вырисовался силуэт, протягивающий ему руку помощи.
– Так это ты, Иешуа, здесь, передо мной? – спросил пораженный Савл.
Нет! – возразил голос. – Держись от него подальше! Он утверждает, что поведет тебя к свету, но на самом деле он желает утянуть тебя в самые глубины пекла!
– Я и так уже в пекле! – возмутился Савл. – И раз ты здесь, со мной, значит, никакой ты не Иешуа, а демон!
Это он заставляет тебя верить в это. Открой глаза, и ты увидишь: все, что я говорю, – истина!
– Но я же не могу! – завопил Савл. – Мои веки запеклись!
Только для настоящего требуется, чтобы глаза были открыты, Савл. А вот прошлое может смотреть на себя и с закрытыми глазами.
Эти последние слова неожиданно подействовали на тарсийца. Он отвернулся от этого силуэта-искусителя, который тут же исчез. Потом он лег на свой тюфяк и свернулся калачиком. Видения, которые у него были, переворачивали все в его голове. Его прошлое расстелилось перед ним, словно карта мира, на которой ему было видно все до мельчайших подробностей…
Он увидел свое счастливое раннее детство в иудейском городке Гискале. Увидел, как на его родную деревню напали римляне, и тот колодец, в котором он спрятался, чтобы спастись в этой бойне. Перед его глазами пролетели три дня и три ночи, которые он провел, дрожа от страха, в горьковато-соленой воде в ожидании ухода солдат. Он видел кормилицу, которая смотрела на него сверху, схватившись за края колодца, пока ее по очереди насиловали два легионера. Он снова пережил тот ужас, который охватил его, когда солдаты сбросили ее в колодец, видел, как она шлепнулась в воду, как она утонула на его глазах, глазах ребенка, слишком маленького, чтобы такое видеть. Прижавшись к мокрой стенке колодца, он ничего не предпринял, чтобы спасти ее, парализованный страхом, – он боялся, что его могут заметить. И когда последние пузырьки показались на поверхности воды, его маленькие слабые ручонки смогли лишь зажать рот, чтобы сдержать рвавшиеся из него рыдания.