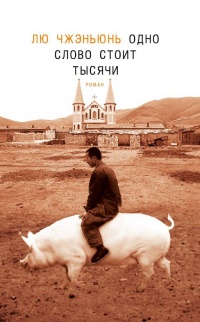Книга Последний колдун - Владимир Личутин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Я ведь про что, – монотонно втолковывал Василист, чуть склоняясь со стула и любопытно наблюдая за встрепанной дедовой головой. – Я ведь за тебя болею в таком смысле, что вдруг зараженье крови – и пшик, на могилевскую. Тебе что, жить надоело?»
Нюра, не сказавши свекрови, все-таки навестила Геласия, улучила момент, когда тот оставался один в доме. Старик лежал на кровати, когда она вошла: только нос вертлюгом да скулы и были видны на испитом пергаментном лице, и серебро распластанной жидкой бороды словно бы стекало из рытых коричневых подглазий. Старику было скучно одному, внутренние голоса в последние дни перестали смущать его дух, и он обрадовался гостье, неожиданно споро сел, подпирая себя руками и высоко задирая плечи в ситцевой рубахе.
– Дедо, как живешь? – спросила Нюра, придвинула к кровати стул, заискивающе вгляделась в подслеповатые совиные глаза, жиденько подсиненные, с легкой искрой насмешливого любопытства в глуби.
– А чего не жить, милушка, слава богу живу. Кормят, поят и работой не неволят.
– Ты на Колю-то моего, на Николая Степановича, поди, в обиде великой? – Нюра неожиданно подалась навстречу, легко погладила костлявое стариковское колено в широкой засаленной брючине и уловила тошнотный смертный запах, исходящий от деда. В зальдившиеся окна на крашеный блескучий пол холодно втекал серенький день; часы с мерным жестяным звяком ковали время, и в короткие промежутки гнетущей тишины врывалась капель из рукомойника. Словно маятник, поймав его качание, тупо кланялся Геласий, не сводя с рыжеватого Нюриного лица недвижного немого взгляда. И ей вдруг стало страшно от затянувшегося молчания, и она подумала: «Колдун, как есть колдун». От этой мысли, почти произнесенной вслух, все уравновесилось в Нюриной душе, и, склонившись к деду, пряча наслезившиеся глаза, она виновато попросила: – Вы сердца-то не держите на Колю моего...
– Бог ему судья, – тускло ответил Геласий, но тут же оживился, и впалые щеки слабо зарозовели. – Я крест ходячий, я на себе предназначенье чую... Как ни вырастай из себя, решил я, как ни хорохорься, а все примрем, и мати сыра земля приберет в свое место и в свое время. Ежели бы мать сыра земля не родила да не вскормила, то никому бы не бывать.
«Колдун, как есть колдун», – упрямо убеждала себя Нюра, тайно уже готовая поверить. Сколько помнила себя, вроде бы всегда обычным и затрапезным виделся Геласий Созонтович и, зная разговоры о нем, никогда бы не решилась всерьез поверить, что этот сутулый старик в черном матросском бушлате чем-то особый среди прочих; а ныне вот осталась наедине с ним, и в душе, уже давно тоскливо и болезненно натянутой и тревожной, все смутное и неопределенное, отложившееся помимо желанья за долгие годы, вдруг слилось в особый образ; и, вглядываясь в глубокий провал глаз с легкой искрой насмешки на самом дне, в этот просторный лоб, с едва заметными залысинами на проваленных висках, и благородный посад головы, слушая глухой голос, исторгающийся из бездны, слегка принакрытой серебряной бородой, она уже знала, что перед нею колдун.
– Геласий Созонтович, свекрова поминала, что вы запуки знаете. Врет, поди? – спросила – и замерла вся, зажимая зябкую дрожь.
– Ничего не знаю, ничего не помню, – отказался тускло старик, все так же мерно качаясь и не сводя с гостьи навязчивого взгляда. – Память вся выпала, как есть круглый дурак. Было время, чего и помнил: остудные слова, на разлученье, на сымание тоски. У нас бабка Кычка Столетня все ворожила на веник да на воду... «Стану я, млада, на шелков веник белым телом, белой грудью, черными бровями, ясными очами, ретивым сердцем, слабыми мыслями, попрошу я серого зайку: прибежал бы ко мне, серый заюшко, снял бы с меня тоску-кручину-печаль...» Ну и все, боле ничего не помню. А для чего, белеюшка? Для чего тебе старина старинная?
– Дедо, ты не таись, я ведь перед тобой как перед зеркальцем. Ты мне на разлученье-то поворожи...
– Кхе-кхе, господь с тобой, – легонько рассмеялся Геласий, от странных Нюриных слов тоже чувствуя волненье. – Мужик галит? Николай Степанович в сторону сбегонул. Эко дело, хе-хе, – снова хихикнул, зажимая в горсти бороду, взгляд затуманился, и словно бы помолодел старик, вспомнив давнюю гульливую молодость. – А я-то чем помогу? Ну и сбегонул, эко диво.
– Я никому не скажу. Я ли ему не подстилка, а он с девкой спутался. Ты же колдун, дедо. Я вижу, что ты колдун.
– Брось, брось, чего мелешь, – испугался Геласий, чувствуя, как все опадает у него внутри: шум в ушах нарастал и тяжелый глинистый ком пехался в горло. Сквозь слоистый розовый дым почудилось странное звериное обличье с выпученными студенистыми глазами.
– Ты наколдуй чего ли. Народ-то зря не скажет. – Упрашивала Нюра, унимая сердечную дрожь и тайную боязнь, и вдруг, не помня уже себя, упала на колени, притиснулась лицом к душным стариковским штанинам, больно прихватилась за сухие икры. – Ты ведь колдун, не отпирайся, – шептала задыхаясь. – Я вижу, что колдун, я теперь все вижу. Слышь, Геласьюшко, пусть отметится твоя слеза, отольется ему. Неужель простишь? Ой-ой...
– Сгинь! Не греши словом, не возводи напраслину, сука! Дай помереть, не стой над душой. Я не колдун, колдуны-то вокруг тебя ворожат. Мало, что дому меня лишили, мало позору моего, дак хотите вовсе допереть, чтобы не дыхнуть?..
– Де-до, чего выдумываешь. Это я-то с умыслом? Я-то-о? Ты откройся, не таись. Я все знаю. Честное слово даю. Я прежде не верила, думала сочиняют про тебя, а теперь ве-рю-ю. И неуж простишь дьяволу, неуж и словом не вякнешь? – Нюра осатанело вскрикнула. – Он кровь мою высосал, а ты, зараза... Есть ли в вас жалость в ком? Только для себя, только на себя, сво-ло-чи. И ты... и ты... Ну помоги, что стоит, хоть капельку колдовской силы направь. Пусть отмстится.
Но старик неожиданно заплакал, тонко, по-заячьи, заверещал, опадая боком на кровати и заламывая худое морщинистое горло, опутанное с-под низу почти лишаистым неживым волосом:
– Не колдун я... не колдун... не хочу кол-ду-ном...
А где-то на изломе марта в Кучему приехал собиратель старины Баринов Пиотр Донович и встал на квартиру к председателю. Домне он сразу же пришелся по сердцу, но свои старушьи симпатии она поначалу скрывала, говорила с гостем сухо и мало и придирчиво оглядывала ученого мужика, который, по ее мненью, не только сам занимался бездельем, но и народ честной отнимал от работы. Был Пиотр Донович высок ростом, места своею особой занимал много, и Домне приходилось далеко огибать его, когда громоздился тот на стуле посреди горницы, широко разбросав ноги. Львиная сивая голова придавала Баринову вид осанистый, голос был густой, с хрипотцой, прокуренный, в груди у гостя простуженно побулькивало, словно бы там постоянно жил кашель, но с широкого, тяжело обвисшего лица с нездоровой багровой паутинкой и с жидковатых навыкате глаз, чуть затененных крохотной белесой щетинкой, никогда не сходило учтивое вниманье. И о чем бы разговор ни затевался – о лесных ли тяжелых сеноставах и коровьих удоях иль о старине предавней, Баринов, по обыкновению, восклицал удивленно: «Что вы говорите? Как интересно». Но знать, в просторной голове гостя в эти мгновенья вились свои заботы, и потому рассказы слабо оседали в ней, ибо до смешного случалось, что через час-другой, слушая на деревне те же самые истории, Баринов, то ли в силу воспитанности иль от застарелой забывчивости, вновь повторял: «Что вы говорите? Как интересно. Никогда не слыхал...»