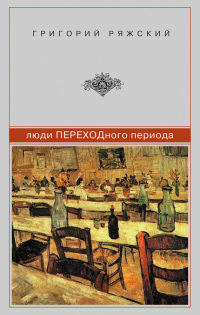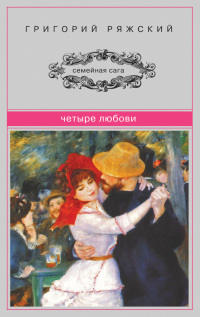Книга Наркокурьер Лариосик - Григорий Ряжский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но сейчас я не верил отцу, не верил, что это обычная любовь, — слишком все было бы просто, как у миллионов других мужчин. Наверное, это было что-то другое, гораздо более сильное, чем просто любовь, иначе не всматривался бы я так долго вслед черному лимузину с синей мигалкой на крыше, увозящему от меня мою девочку, Варю Валееву, ученицу нашего класса, девятого «А»…
А потом, сразу после зимних каникул, я заболел воспалением легких, и меня положили в больницу. И мама приходила ко мне часто, почти каждый день, и приносила всегда что-нибудь вкусное. А один раз пришли ребята и с ними она… И она положила мне на столик бананы и сказала, чтобы я выздоравливал поскорее, потому что меня все ждут и любят. И когда они ушли, я заплакал, и плакал потом почти каждый день, до самого выздоровления, но всегда тайно от всех и понемножку. А Варины бананы я разрезал на кружочки и каждый раз съедал по такому кружочку, когда о ней вспоминал, и перед этим еще подолгу держал их под языком, потихоньку разминая.
А когда наконец я появился в школе, был уже самый конец февраля, то есть — почти март, то есть — почти весна. И Варя выходила из черной машины, одетая уже не по-зимнему, а под ногами уже были лужи, но она не перескакивала через них, как раньше, а обходила, элегантно приподнимая полы длинного и тоже черного пальто. И ждал ее теперь не тот, из одиннадцатого «Б» парень, а совсем другой — из одиннадцатого «А», тоже с косичкой, — с коротким хвостом. И я снова отметил, что она выросла еще больше и стала еще взрослее, а разум мой не желал с этим мириться, потому что понимал, — она выросла, а я — нет, я остался того же роста, и черной машины мне за это время никто не подарил. Но зато еще через месяц, когда вовсю разыгралось солнце и, почти уже дотаяв, превратился в грязь рыхлый московский снег, я обнаружил, что боли мои поулеглись слегка, и тянуть, там где тянуло последние три года, стало меньше, не намного меньше, но все же чувствительно, и я стал ловить себя на том, что лицо мое уже не заливается краской стыда, когда я вновь пытаюсь представить себе предметы моих мучительных вожделений: этот точеный лобок, безукоризненный, наверное, с нежными круглыми завитками черных волосков, эти розово-белые подмышки, вымытые, гладкие внутри, пахнущие сладким молодым сиропом, эти скульптурные грудки, трепетные, вздрагивающие под тонким свитером, не нуждающиеся еще ни в каких дамских аксессуарах, и, наконец, это острое плечико, невзначай отведенное назад, чтобы хрустнуть внутренней косточкой и вернуться в исходное положение, как на уроке физкультуры…
Не помню, я сказал, что мне все это тоже было в обтяжку? Все, что я перечислил…
Да, мне стало легче, это правда… Но все равно это был далеко не конец еще. Правда, сначала снова было длинное ненавистное лето, чертовы каникулы эти, целых три месяца, и все три — без нее, без Вари…
Но зато потом мы встретились, и это уже был следующий класс, очередной. И то, что я увидел, уже не было Варей. То есть, это, конечно же, была она, ученица нашего десятого «А», Валеева Варвара. Но это не была она, я настаиваю…
А сразу после этого, буквально через пару дней после нашей новой встречи, мы стали проходить логарифмы. И еще через день Варя стояла у доски и отвечала урок, а я наблюдал за ней и ничего не слышал…
Передо мной в полный акселератский рост стояла вульгарная девица — нет, женщина, в короткой розовой юбке, с розовым лаком на удлиненных ногтях, и волосы ее уже не были собраны в упругую косичку, как раньше, и уже не были черными и блестящими, а торчали теперь в разные стороны в виде неровных, плохо прокрашенных перьев. И в каждом ухе, в каждой, так хорошо знакомой мне маленькой мочке болталось по паре каких-то блестящих кругляшек, а сами уши пробиты были такими же блестящими металлическими шариками, совершенно неуместными, просто отвратительными.
— Логарифм, — сказала она, — это показатель степени, в которую нужно…
Она продолжала что-то объяснять, и тут я заметил, что ресницы ее стали гораздо длиннее, но не так, не по-честному, а по-другому, как не могло быть у моей Вари, у той, прошлой… И очков не было больше, ни тех — круглых, детских… ни других — продолговатых… А были, вероятно, контактные линзы… И губы ее были намного розовей, чем раньше, сильно розовей, но по цвету точно совпадали с ногтями и юбкой. И сентябрь еще только начинался, и было очень тепло, почти жарко, но белых гольфиков тоже не было на белых резинках, а были прозрачные колготки. И пахло от нее чем-то отвратительным — не парным и не кисло-сладким, а дорогим и чужеродным…
И тогда она повернулась к доске, чтобы написать этот самый логарифм, нарисовать его, морского этого зверя, конька, который всегда вертикальный и плавает боком вперед, и протянула руку, чтобы взять кусочек мела, и повела плечиком вперед и вниз. И плечико это не оказалось уже острым, с хрусткой косточкой внутри, а было просто плечом, и даже слегка округлым, и я увидел, как из-под него на мгновенье выглянул влажный подмышечный овал, потому что жарко. И не дрогнули трепетно, как раньше, маленькие холмики под майкой, а тяжело колыхнулась закованная в бюстгальтер, развитая почти как у зрелой женщины, грудь…
И тогда я осознал, что на этот раз — всё. Всё — на этот раз, окончательно — всё! И мне стало легко и воздушно, и перестало тянуть даже слабо, даже еле-еле, даже вообще где-либо перестало волновать…
Я взглянул на доску и на ученицу Валееву. Меловой конек подмигнул мне, усмехнулся и снова превратился в логарифм.
— Садись, Валеева, — сказал я ей, — молодец!
Я взял ручку и вывел у нее в дневнике жирную пятерку. Валеева довольно ухмыльнулась, подхватила дневник и пошла по проходу, цепляя за столы здоровенной задницей. Точно так же в тот день, ровно шесть лет назад, когда мы с ребятами проходили логарифмы, удалялась от меня Катенька… Катюша… Катя… Екатерина… ученица Епифанова, моя десятиклассница. А еще раньше это была… не уверен, как ее звали, но тоже, с седьмого по десятый, совершенно точно, как всегда…
Чертова память… Не помню, я сказал, что за свои пятьдесят четыре года я натерпелся на все сто восемь?..
Ну, правильно — год за два, при логарифме, равному двум. И я настаиваю на этом. Как и на том, что, несмотря на затянувшееся одиночество, страдать и радоваться жизни я так и не разучился. Потому что год пролетит незаметно, а там и выпуск не за горами, и я снова возьму молочных пятиклашек и снова доведу их до выпуска. И снова я, Глеб Георгиевич, учитель математики, бессменный классный руководитель, буду гордиться тем, что вывел их в люди. И помнить их всегда тоже буду. Особенно тех, кого учил с седьмого по десятый. Но не далее первой четверти — до раздела логарифмов…
Старую эту бочку, совсем рассохшуюся и треснувшую по швам так, что даже самая крупная соль вываливалась из щелей, делая ржавые металлические обода еще ржавей, Ванька помнил ровно столько, сколько помнил себя сам — девять лет из своих тринадцати. Бочка стояла в сенях, в закутке за фанерной дверью, и была прикрыта такой же древней и тоже рассохшейся круглой деревянной крышкой. Вместо ручки отец приспособил к ней цементную затирку, которую притащил с колхозной фермы. Вернее, притащил с того места, где когда-то стоял колхоз «Наш путь». Теперь на этом месте был перестроечный бурьян, проросший сквозь развалины бывшего колхозного коровника, и откуда там взялась эта малярная принадлежность — одному Богу было известно. Ему, наверное, да покойному председателю…