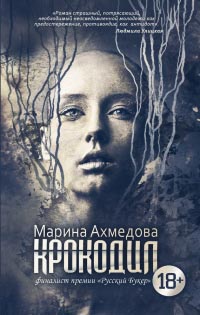Книга Дневник смертницы. Хадижа - Марина Ахмедова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Город зимой стал таким противным. От нашего корпуса до моря — идти и идти, минут двадцать. Откуда здесь берется такой сильный ветер? Невозможно волосы распустить — ветер делает с ними что хочет.
Сегодня я снова видела Сакину. Она пришла в голубой шиншилле. Она зашла в дверь, когда мы стояли у зеркала, и прошла мимо нас, глядя прямо перед собой. Можно подумать, она всегда что-то видит на кончике своего носа — так его задирает. Другие девушки, когда проходят мимо зеркала, хоть один взгляд в него бросают. А эта нет, как будто слишком уверена в своей красоте. Зато как на нее смотрели другие… Конечно, куда мне до нее. Только тебе, моя тетрадь, я могу сказать, что происходит со мной, когда я вижу Сакину, — мне хочется подбежать к ней и царапать ногтями ее тонкую белую кожу. Когда я представлю, что ей достанется Махач, у меня волосы на голове шевелиться начинают, от злости я себя не помню. Как я ненавижу ее!
Его я хочу увидеть — и не хочу. Я боюсь его видеть — и боюсь не видеть. Иногда мне кажется, еще чуть-чуть не увижу его, и умру. Я думаю о нем постоянно, и не могу с этим ничего сделать. Я приказываю себе — быстро выброси его из головы, он все равно никогда не будет твоим! Но какой-то голос нашептывает мне — Махач, Махач, Махач. Мне и сладко, и горько слышать этот голос. Он сладкий, как сахар из бабушкиного мешка. Если этот голос позовет меня броситься в речку или под машину на дороге, я сделаю это. Не хочу жить без Махача. Его лицо и этот голос, похожий на тот, что я слышала в детстве, всегда сидят в моей голове. Я хожу на занятия, ем, смеюсь с Сабриной, разговариваю и иногда даже забываю обо всем. Но стоит мне отвлечься, как голос шепчет мне — Махач, Махач, Махач, — и я снова начинаю умирать. Мне столько раз хотелось подойти к стене и разбить об нее свою голову, чтобы вытряхнуть из нее лицо Махача и этот сладкий голос. Аллах, если это такая бывает любовь, то будь она проклята, эта любовь! Зачем ты ее придумал? Зачем она существует на свете? Без нее лучше. Без нее можно жить, дышать можно. Без нее сердце не разрывается и не лопается. Глаза не плачут. Слезы не льются, когда можно и когда нельзя. Я сижу в маршрутке, смотрю на дорогу, а слезы так и текут по щекам. Хадижа, остановись, говорю я себе, на тебя же все смотрят! Они думают, у меня что-то случилось, может быть, кто-то умер. Я была бы счастлива, если бы эта несчастная любовь умерла. Я бы танцевала на ее могиле. Я была бы радостна и довольна. Будь она проклята! Аллах, я бы всю жизнь отдала за один год счастья.
Устала я от этого города. От постоянного дождя и сильного ветра. Надоел он мне. В село хочу. Закончится сессия, уеду к бабушке.
Нам передали листок, на котором возле каждого предмета стояла цена за «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Дешевле всего стоили зачеты. Листок принес Сулик. Не знаю, где он его взял. Замдекана — Сулика родственник. Дороже всего, как и предупреждали, Ума Саидовна. У нее «отлично» пятьсот долларов стоит. Хабибула Мусаевич толкнулся дешевле всех. Сулик просто собрал все наши зачетки, мы скинулись, он занес все вместе — и зачетки, и деньги. Только Оксана Одинцова не скидывалась. Она всю сессию будет сдавать сама. Посмотрим, как Хадижат Абдуллаевна ей поставит — ее не волнует, готова ты или нет.
У нас за сессию берут больше, чем на филологическом, но меньше, чем на экономическом и юридическом. Дядя говорит, там преподаватели совсем жируют. Если денег нет, студенты начинают продавать свои вещи. На филологический факультет приходили студенты с физмата и скупали у девушек по дешевке их трубки. Потом они их продадут дороже на каком-нибудь рынке. Им же тоже надо на сессию зарабатывать.
Еще в начале сессии дядя приехал в университет к нашему замдекана и толкнул мне почти все экзамены, кроме философии.
— А он, короче, сейф открывает, а там стопки зачеток стоят, — потом рассказывал дядя и хохотал, — короче, это все, кого он сам толкает. Потом передаст зачетки кому надо и снова их в сейф положит. Так они там и будут лежать до следующей сессии.
Нинушка даже не приходила на все экзамены. Все видели у нас на факультете Гамзата с толстой пачкой тысячных — он толкал за нее сессию. Какой позор, они же не женаты. Правильно тетя говорит, горбатого могила исправит. Ее хоть убьют родители, она все равно будет с Гамзатом гулять. На мой взгляд, не такая уж она красавица, но он — точно чудовище.
Сессия заставила меня немного забыть о Махаче. Хоть дядя все и толкнул, я за Сабрину волновалась. Кто ей толкнет? Исмаил еще не приезжал, хотя с его звонка только неделя прошла. Сабрина получила несколько «неудовлетворительно». У нас на курсе хватало таких, кому никто ничего не толкал, и они старались сдать сессию сами. Клянусь, эти преподаватели, они были такие добрые с теми, от кого взяли деньги, и такие строгие с теми, кто сдавал сам. Конечно — экзамены ведь их хлеб.
Только я все равно не могу понять — как они потом станут нам в лицо смотреть, мы же будем знать, что они покупаются. Клянусь, если б я купилась, я б себя уже человеком не чувствовала, потому что я же не сумка на рынке, которую можно купить. Я думаю, они во время второго семестра глаз на нас не будут поднимать, так им стыдно будет. Зачем, да, так жить? Я понимаю, когда, как дядя Вагаб, взял у кого-нибудь деньги, но про это же никто не знает, и ты ходи по улицам уважаемым человеком. А в университете все знают, сколько и у кого ты взял, потому что почти все сами тебе давали. Дядя говорит, их тоже понять можно — в городе другой работы нету, экономики у нас нету, заводов нету. На что людям жить? Хотя, Аллах, я бы не сказала, что люди в нашем городе так уж плохо живут — одежда у всех дорогая, машины-иномарки, салоны красоты полные, в праздники, клянусь, в ресторанах места не найдешь. Хотя в ресторанах я не была, но я же вижу, сколько дорогих машин возле них стоит.
Наступил тот день, которого я боялась, — экзамен по философии. У Хадижат Абдуллаевны, говорят, такое правило — она сама лично толкается, потом со всеми другими делится.
Наш курс стоял в коридоре рядом с аудиторией. Все заходили по одному. Как я буду давать деньги, волновалась я.
— Как все, — говорила Сабрина. — Положи деньги в зачетку. Зайдешь, и сразу зачетку ей на стол. Посмотришь, она Даже спрашивать тебя ни о чем не будет.
Первой вышла Фатима. Ее отец — художник, и она тоже притворяется аристократкой — медленно ходит, тихо говорит, всегда краснеет. Она уже засватана за московского банкира. Не видела картин ее отца, поэтому не знаю, на что этот банкир позарился. Фатима — маленькая, худая, как палка, а лицо у нее — Абидатке из нашего села позавидуешь. И глаза завистливые. Пусть хоть тысячу картин твой отец нарисует, пусть ты хоть сто раз себя аристократкой считай, пусть хоть так тихо говори, что все вокруг уши сломают, все равно зависть в глазах не спрячешь. Бабушка всегда говорила: чтобы понять, какой человек, надо ему в глаза посмотреть — в глазах душа отражается.
— Какой позор, какой позор, — Фатима прижимала узкие ладони к бледным щекам. — Поверить не могу, я давала взятку. Я — давала взятку. Какой позор, — она мотала головой.
Клянусь, я разозлилась — если ты такая честная, зачем замуж за банкира выходишь? Как будто мы не знаем, как в Москве деньги делают.