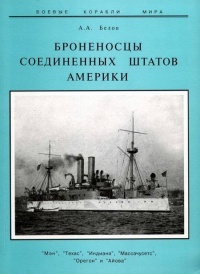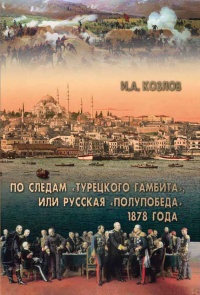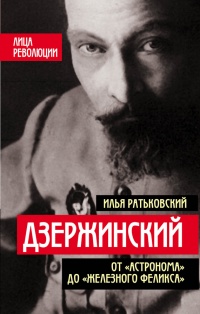Книга "Еврейское слово". Колонки - Анатолий Найман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Слово «возвращение», попавшее в название романа, многосмысленно. Героиня возвращается в Россию, чтобы быть похороненной в земле, на которой родилась. Но ее мать, глубоко верующая христианка, категорически отказывается хоронить. Дочь хотела остаться в Иерусалиме. Как можно упустить невероятную возможность лежать в Святой Земле? Куда, надеется мать, может быть подхоронена и она сама. Дочь должна вернуться в Израиль! По трезвом, хотя и страстном раздумии, Кадровик с ней соглашается. Он готов повторить трудное путешествие с погибшей еще раз, назад, взяв с собой ее мать и сына. Какой в этом смысл, спрашивает его Старик. Это нам всем и предстоит понять, отвечает герой. Общими силами.
7 (20) ноября 1910 года умер 82-летний Толстой. Ничья смерть никогда не производила такого сильного потрясения в России, не вызывала такого резонанса в мире.
Сказать, что такое Лев Толстой, невозможно. Самое близкое к ответу – это ткнуть пальцем в сторону ста томов полного собрания сочинений и скольких-то томов воспоминаний о нем. Прочтите, и станет немного яснее. А совсем ясно – что ответа в принципе быть не может. Вроде того, как сколько кто ни всматривайся, ни соображай, что такое земля, или жизнь, или человек, понять можно только, что формулу не вывести. Без иррациональной величины вроде π не обойтись, а в π бесконечное число знаков, оно неуловимо. Чем больше читай Толстого, чем больше читай о Толстом, тем очевиднее его бесконечность и неуловимость.
Лучше всех о нем написали Горький, Короленко, Куприн, и главным образом потому, что, будучи крупными фигурами, все-таки не мерили его на свой аршин, понимая, что меньшему не дано делать заключение о большем. Но они нашли точку, с какой на него смотреть, и как глаза открыть, и в каком находиться в эту минуту душевном состоянии. Хуже всех – люди идейные, включая, увы, толстовцев. Мой отец был толстовец (к счастью, не из таких «профессионалов»), в 1920 году ставший членом толстовской колонии в подмосковной Тайнинке, просидевший, сколько тогда полагалось, в Бутырской тюрьме за отказ служить в армии. Так что Толстой был для меня с детства кем-то вроде дальней родни, таинственного дяди, не вполне реального. Те, кто писал о Толстом на основании своих представлений о нем после прочитанного, выделяли в нем какую-то часть, сосредоточивались на какой-то одной его стороне, которые в таком виде легче поддавались обозрению. Читая в девятом классе статью Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», мы интуитивно ощущали, что ленинские соображения одно, а он совершенно другое. Ему от этих операций ничего не делалось, он не придавал этому значения, зная несоразмерность целого и частных результатов их усилий. Например, о книге Шестова «Добро в учении графа Толстого и Ф. Ницше» сказал: «Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит, и других обманул», – и, спрошенный, почему парикмахер, объяснил: «Вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех». (А в моей и моих товарищей молодости эта книга занимала существенное место.)
Похоже, что сегодня, через сто лет после смерти Толстого, единственное, о чем имело бы смысл в связи с ним сказать, это насколько страна, то есть ее население, мы все, отказались от той России, которой он желал и был олицетворением. Заигравшись, заболтавшись формулой «Пушкин – наше все», мы по лености мысли не замечаем, что гораздо больше оснований быть «нашим всем» у него, Льва Николаевича. Ни в малейшей степени это не покушение на пушкинское место. Просто Пушкин, если развивать известную метафору, есть солнце нашей культуры, нашего искусства, нашей литературы, а Толстой есть свет и воздух, почва и огонь нашей повседневности. И тот и другой – образцы русской психики и духовности, но если Пушкин в, так сказать, аполлоническом исполнении, то Толстой в юпитерианском. А сопоставляя их более приземленно – Толстой современник поездов, автомобилей, аэропланов и революционных толп, свой в мире средств массовой информации, и в этом смысле современник нас нынешних. Тогда как Пушкин – троек, кремневых пистолетов с насыпным порохом, бунтующей черни и зимнедворцовых раутов. Следует только прибавить, что одновременно Толстой воплощал собой и исключение из «нашего всего». Он был и мужик и аристократ, и простец и эстет, и пацифист и офицер, и еж и лиса. У Пушкина такой двойственности нет.
Горький в своих воспоминаниях отмечал, что отношения Толстого с Богом выглядели, как «двух медведей в одной берлоге». В этом наблюдении содержится несколько смыслов, и в частности такой, что Толстой прекрасно отдавал себе отчет в том, что обладает способностью творить мир из тех же материалов, что Бог. Из тех же, прежде всего, людей. И вот, зная досконально человеческую природу, ее жестокость, тупость, подлость, себялюбие, он, полагаясь на также свойственные ей жалость, сострадание, самоотверженность, склонность к прощению, посвятил свою жизнь грандиозной попытке создания на земле справедливого общества. Не только мощной проповедью, получившей название толстовской, но и практическим воспитанием тех, с кем сводила его судьба. Крестьянских детей, неграмотных мужиков и баб, властителей, чиновников, преступников. Конкретных, знакомых в лицо или по имени. А поскольку у его книг были сотни тысяч читателей, то и множество незнакомых. Он обращался к ним на понятном, берущем за сердце языке, без оглядки на то, принято так говорить или нет, нравится это кому-то, хотя бы и царю, и церковнослужителям, и полиции, или приводит в негодование.
В социальном плане он ставил целью убедить людей имущих в том, что делиться богатством с неимущими – правильно. Что стараться изменить в эту сторону свое сознание – хорошо. Архимедовым рычагом он считал передачу земли крестьянам – как единственным желающим и умеющим работать на ней. Он не был наивным человеком, отнюдь. Так же как идеалистом, нимало. Он первый понимал, что такое преобразование мира начинается с преобразования нравственности. Но он, опять-таки как никто другой, знал, что в России, с преобладающим в ней сельским общинным укладом жизни, для этого есть реальные основания. Ему не надо было, как честным интеллигентам, идти в народ – он жил в нем, был им. Что русский бунт бессмыслен и беспощаден, он знал не хуже Пушкина. Но допускал, что такая угроза может заставить правящий класс опомниться и через это подвигнуть страну к тем же переменам. Если же нет, ну что ж, значит, ей предстоит, как он верил, быть пережженной в страшном революционном огне.
Толстой давал России – и тем самым миру – надежду. Он добился пусть не перемен, но сдвига в сознании людей. Сто лет, прошедшие с его смерти, не оставили от его замысла и труда камня на камне. Остались книги. «Война и мир», «Смерть Ивана Ильича», «Хаджи Мурат», «Анна Каренина». Огромное наследство. Но только художественное.
И личность. Чтобы мы знали, каким может быть человек.
Год кончился многодневными тысячными уличными беспорядками. Можно сказать, что ими кончилось десятилетие. Не хочу преувеличивать угрозу, подхватывать слова «мятеж», «революция». Довольно того, что было, чтобы почувствовать, насколько это серьезно.