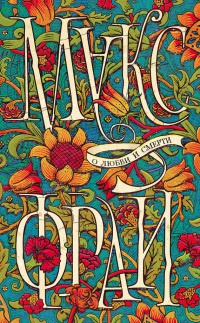Книга Песни сирены - Вениамин Агеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дальше всё развивалось в лучших традициях русской литературы девятнадцатого века, то есть настолько предсказуемо, что излишне говорить об этом в подробностях. Если уж совсем коротко, то весь последующий день я с идиотской уверенностью ждал, что Галя придёт просить у меня прощения. Ещё день ушёл на то, чтобы впасть в другую крайность – то есть начать каяться и переложить вину за разлад между нами на себя самого. Наконец, полный благих намерений и предварительно совершив рейд на близлежащую клумбу за цветами, я отправился к Гале мириться. Стоял тихий очаровательный вечер, и моё настроение мимикрировало ему под стать, приняв после всех недавних треволнений элегическую задумчиво-грустную окраску. Словом, я находился в самом подходящем состоянии духа, чтобы не только даровать отступнице полное прощение, но и закрепить этот великодушный акт серией долгих поцелуев. Увы, ещё на подходах к квартире Деггяренок мне пришлось испытать новую контузию, потому что, едва войдя в подъезд и оглянувшись на шорох в оконной нише между лестничными площадками, я увидел свою девушку в объятиях Ванюши. Самым противным было даже не то, что поза сидящей на подоконнике подруги не оставляла шансов для сомнений, а то, что она была знакома мне до мелочей по нашим прежним свиданиям. Те же раздвинутые ноги, та же рука, заброшенная за шею стоящего перед ней футболиста. Будь Галя одета не в джинсы, а в юбку, поза выглядела бы ещё более рискованной и бесстыдной, но и в более целомудренном исполнении она произвела на меня достаточное впечатление, чтобы я опрометью выскочил на улицу и, отшвырнув свой любовно собранный, но ставший ненужным букет, бросился бежать. Возможно, тип классического ревнивца предполагал бы иную реакцию – например, вооружиться первым попавшимся орудием, вроде булыжника, и убить прелюбодеев. Тем не менее, я полагаю, что испытываемые мною муки были отнюдь не слабее, хоть и воплотились в противоположном, трусливо-пацифистском варианте. Какое-то время, не помню точно, насколько продолжительное – неделю? полторы? – я был как в бреду. Это полубредовое состояние, несмотря на временную атрофию способности к трезвому рассуждению, крепко запечатлелось у меня в памяти в качестве конкретного ощущения и представляло собой сильное побуждение к действию при отсутствии какой бы то ни было точки приложения. Я забывал поесть и почти не спал. Моё непрерывное болезненное напряжение, не находящее ни малейшей разрядки, очень напугало маму, но у неё хватило здравого смысла, чтобы не допытываться о причинах. Впрочем, возможно, что она кое о чём догадывалась. Как бы то ни было, но в одно поистине прекрасное утро я ощутил себя совершенно нормальным жизнерадостным подростком, с хорошим аппетитом и без каких бы то ни было следов душевных терзаний. Не то чтобы мне стало всё безразлично – вовсе нет, я даже испытывал лёгкое сожаление. Но, во-первых, я переживал уже не из-за утраты Гали как таковой, а из-за утраты пьянящего чувства своей былой влюблённости. А во-вторых, история наших отношений как-то сразу перешла из области «жизни и смерти» в область более-менее незначительных неприятностей. Напоследок замечу, что Галя приходила ко мне ещё дважды после нашей неожиданной встречи в подъезде. В первый раз это произошло на следующий же день. Думаю, что из-за скрывавшей меня у основания лестницы темноты и в силу того, что я заглянул в парадное всего на несколько секунд, Галя могла лишь догадываться о том, кто именно стал свидетелем её свидания с футболистом, и теперь, испытывая вполне объяснимый дискомфорт неизвестности, заявилась ко мне домой, чтобы, по возможности, разведать всё наверняка. Но я, увидев через глазок её лицо, не соизволил открыть замок, хотя она наверняка слышала шаги в квартире. Последний визит, во время которого Галя пыталась разжалобить меня в надежде на примирение, состоялся много позже. На этот раз я отворил дверь и сделал приглашающий жест – как раз потому, что был к ней уже равнодушен. Проводив свою бывшую подружку на кухню, я заварил крепкий чай, и мы сели друг напротив друга за колченогий стол, накрытый выцветшей клеёнкой. Тогда-то наконец и произошло объяснение: с моей стороны – сдержанно-прохладное, с её – бурно-слезливое. Впрочем, по мере того как она понимала, что я остаюсь непреклонен, буря утихала, лишь слёзы, которые Галя периодически размазывала по щекам, продолжали течь из её прекрасных глаз цвета тёмного мёда – теперь они, правда, утратили нахальное выражение, став вдруг пронзительно-печальными. Следует признать, что моя отставленная пассия вела себя очень грамотно и, случись тот же самый разговор в нужное время, на пике моего приступа ревности, все её оправдания, даже самые невероятные, были бы мною с благодарностью приняты. Я не имею в виду, что она была неискренней, скорее всего, Галины эмоции ни в коей мере не были наигранными. Суть в том, что, какими бы они ни были, её попытка принести мне своё раскаяние была обречена – хотя бы потому, что произошла уже после того, как я перестал в ней нуждаться. И даже с большим запозданием.
– Послушай! – сказал я мягко, но в то же время тоном, который не должен был внушать ей особых надежд. – А если бы мы поменялись местами?
– Как это? – не поняла она.
– Ну вот так. Если бы сюда приехала команда гимнасток. Да совершенно неважно, какая команда. Но если бы всё происходило в точности так же, только зеркально наоборот?
– Уж по крайней мере, я не сбежала бы!
– А что бы ты сделала?
– Я бы за тебя дралась! Клыками и когтями. Я бы тебя отбила.
Ирония этого ответа заключалась в том, что он высвечивал как раз ту дилемму, которую я к тому времени уже решил для себя раз и навсегда и в которой, в общем-то, крылось главное препятствие для нашего примирения. Для Галиного мироощущения, для её системы ценностей и для тех игр, в которые она играла, такой ответ был вполне последовательным. Но одновременно он был и совершенно неприемлем для меня. Вся горечь моего разочарования происходила из категорического нежелания вступать в соперничество. Никто мою подругу не умыкал, так что сабинянку ей из себя не стоило разыгрывать. Речь, таким образом, шла не о том, чтобы, пуская в ход клыки и когти, вырывать её из лап злодеев, а о том, чтобы с помощью тех же клыков и когтей удерживать её расположение. Тривиальный по содержанию сюжетец рыцарского поединка – два героя вступают в борьбу, и победитель получает в награду доспехи побеждённого вкупе с рукою красавицы, которая вплоть до решающего удара подбадривает обоих бойцов, не будучи уверенной, которому из них отдать свои первичные и вторичные половые признаки, сердце и прочую требуху. Вроде бы ничего особенного. Но я не хотел. Мне претила самая мысль, что я должен зарабатывать себе право на то, чтобы считать Галю своей. Не в смысле «своей» как собственности, а в смысле «своей» как части чего-то большего, нежели простая совокупность двух разных людей. Галя, как мне раньше казалось, была частью меня, так же, как я был её частью, это предполагалось как аксиома и не требовало рыцарских ристалищ. Неважно, средневековые это ристалища или современные – в любом случае их суть слишком напоминает осенний гон архаров, когда самцы бьются друг с другом рогами. Пусть это сколько угодно соответствует человеческому естеству и законам природы – я не хотел быть очередным бараном, состязающимся с другим бараном за право обладания самкой. Но бывшая подруга меня всё равно не поняла бы – теперь-то это уже было ясно, раз она не понимала самого главного в моём чувстве к ней. Ведь не исключено, что и на её увлечение я смог бы взглянуть более сочувственно, если бы ощущал себя вне конкуренции – не лучше или не хуже, а просто вне. Поэтому я не стал ничего объяснять, а всего лишь сказал, что не собираюсь её ни у кого отбивать. Галя очень удивилась – она даже плакать перестала на мгновение: